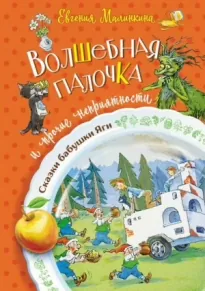Журавлиные клики
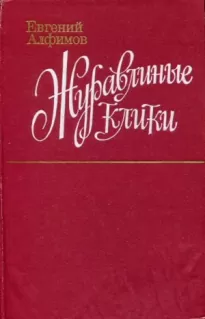
- Автор: Евгений Алфимов
- Жанр: Советская проза
- Дата выхода: 1984
Читать книгу "Журавлиные клики"
Долгожданная минута наступила под вечер, когда сарай караулил третий по счету солдат. Бабка была рядом. Встрепенувшись, Петька толкнул ее в бок — глянь-ка, мол. Он сразу заприметил в третьем немце какую-то слабинку, что-то от расхлябанности, несерьезного отношения к службе. Солдат позевывал, насвистывал песенку, запустив лапу под мундир, почесывал грудь («Воши ядуть», — посочувствовала Лукьяниха). В его движении возле сарая не усматривалось никакого порядка: он то шагал по кругу, то спускался по косогору чуть ли не до самой речки, то уходил наискосок, под липы парка. Скучно ему было, определил Петька, до смертушки, и когда поодаль, со стороны школы, появился другой немец, в белом колпаке и фартуке, тащивший, видать, на кухню ведро с водой, часовой радостно, по-вороньи картавя, окликнул его. Колпак остановился, опустил на землю ведро и что-то крикнул в ответ. Часовой поманил его рукой, колпак ответил тем же. Часовой показал на сарай, колпак — на ведро. Часовой сдвинул набок пилотку и пошел, насвистывая, к колпаку…
В том месте, где притаился Петька, речка была такая узкая, что он перескочил ее одним махом. Лукьяниха видела, как он, согнувшись, побежал по косогору. Немцы стояли к нему спиной, громко смеялись и что-то толковали про «вассер» и «шнапс» (бабка ясно расслышала эти слова и понимала их значение). У двери Петька чуть замешкался, — наверное, не вдруг смог откинуть щеколду, потом дверь распахнулась, и на пороге показался Егорыч. Ослепленный яркостью дня, он закрыл ладонью глаза, пьяно зашатался. Петька дернул его за рукав, и Егорыча будто ветром сдуло с пригорка — только кусты затрещали в овражке. Туда же метнулась Анна Петровна, следом за ней — Мишка.
Рванулся было и Петька, но, споткнувшись, упал, схватился за ногу, стал корчиться на земле… Эта минута промедления и решила его судьбу…
«Ой, Петька!» — тонко охнула в малиннике бабка, видя, как обернулись немцы, как побежали, тяжело топая, к сараю. Пока повар пинал Петьку сапогом, часовой строчил из автомата по кустам и, не переставая, орал дурным голосом, созывая на подмогу товарищей. Примчалось их к сараю со всех концов парка, по бабкиному подсчету, человек сто — одни подняли галдеж в кустах, другие сгрудились над Петькой…
«Зашибся он сильно, родненький, — рассказывала Лукьяниха полчаса спустя (выбравшись из малинника, она поспешила к Насте). — Как вели, прыгал на одной ноге… Знать, на пенушек наскочил…»
Повели Петьку в школу, надо полагать, на допрос, и Настя, едва выслушав Лукьяниху, побежала туда. На крыльцо вышел переводчик Карл — немец до смешного маленький ростом (на деревне его звали Карлой) — и объяснил ей, что все будет зависеть от «герр обер-лейтенанта», а так как «герр официр ест ошен добри шеловек», то пусть «матка не плашет» и идет домой: может, все обойдется.
Настя ушла успокоенная, ночью даже подремала немножко, но рано утром в деревне появились автоматчики и стали выгонять народ за околицу, на грязный лужок, где обычно паслись гуси. Вместе со всеми погнали туда и Настю. За нею брели Дунька с Ванькой, испуганно хныкали, дергали мать за юбку…
Тут Настя надолго замолкла, понурилась. В хате было тихо. Дунька с Ванькой сидели не шевелясь, слушали бабушку, только негромко похрапывал уснувший спьяну Антоныч.
— Что ж дальше? — осмелился спросить Владимир Петрович и пожалел, что спросил, поймав осуждающий взгляд жены Антоныча.
— После, после доскажет. — Она торопливо наполнила гостю стакан. — А то что ж вы, мама, все о печальном, и себе сердце рвете, и нам невесело.
— Да ты пей, Петрович, пей, — сказала Настя. — И ешь. Грибков попробуй, они у меня скусные… О чем это я? Так вот, значит, стоим мы на гусином лужку и на школу поглядываем. Вскорости на дороге мотоциклы застрекотали — это Петьку везли. Впереди ехал ихний начальник, лейтенант, в картузе высоком. На задней мотоцикле Карла сидел, а рядом с ним, в коляске, — Петька. Я его издали признала, по белой рубахе. Вытащили его из машины и поставили перед народом. А народ — бабы да ребятишки, старики со старухами. Молодых парней и мужиков в силе о ту пору в деревне не было, на войну забрали. Все молчат, вздыхают, крестятся. У Петьки на душе, знать, кошки скребли, да только храбрился — улыбался, чубчиком встряхивал. И все зашибленную ногу поджимал под себя. Посмотрела я на него, худого, дробного, — они с Карлой одного росточка были — заревела в голос… Мне бы удержаться, Петрович, легче б ему помирать было, а я заплакала, и он заплакал, горько так, прямо навзрыд. Карла засмеялся и говорит: вот он, мол, ерой ваш, в три ручья заливается со страху — чисто дите малое. А я-то знала, что не со страху плакал Петька и не себя пожалел — меня пожалел, Ваньку с Дунькой… Ну ладно, достал Карла бумагу и стал читать. Она по-русскому была написана. Спешно читает, бормочет под нос и в небо посматривает: из-за леса туча шла, такая черная, такая страшная. И командир немецкий косился на тучу и все торопил Карлу — шнель, шнель, быстрей, значит. Ничего я в той бумаге не разобрала, только поняла, что Петька мой поднял руку на всю ихнюю армию фашистскую и потому ему — смерть, чтобы, дескать, другим неповадно было идти супротив ихней силы. Командир покосился на тучу и головой кивал, — мол, правильно читает Карл, а сам, ирод, ни словечка по-нашему не кумекал, это вся деревня знала. За что, думаю, убиваешь моего Петьку, а сама вспоминаю давешние слова Карлы: может, и правда, что добрый, может, помилует… Только не помиловал… Тут гром ударил, дождем секануло, командир махнул перчаткой — знак дал, Карла вытащил пистолет и пальнул Петьке в грудь…
— Вот и все, — сердито сказала жена Антоныча. — А что дальше было — не спрашивайте. Мама вместе с Петькой наземь упала, без памяти, еле к вечеру отходили. Без нее и закопали Петьку на том самом гусином лужку…
Владимир Петрович сидел протрезвевший, поглаживая бледные щеки.
— А уж гроза-то, гроза тогда была. — Настя посмотрела в угол, на божницу. — Мне потом люди сказывали, Петрович, никогда еще в наших краях такой сильной грозы не было: крыши на хатах развевало, суки на деревьях ломало. На ильин день это было. Поди, гневался Илья-пророк на немцев, пужал их за моего Петьку… Они сразу побегли к школе, оставили только Карлу и еще одного. Эти не ушли, стояли под молоньей и громом, пока мужики не закопали Петьку. На Петьке сухой нитки не было, и опустили его в воду: страсть ее сколько набежало в ямку…
Проснулся Антоныч, потянулся, виновато моргая:
— Перебрал я малость…
— Ну нам пора, — сказала его жена. — Где твоя шапка?
Под столом отыскала шапку, нахлобучила ее на Антоныча, скомандовала детям:
— Дунька, Ванька!
На пороге обернулась, бросила Владимиру Петровичу коротко и сухо:
— Вечером — милости просим к нам.
Дверь захлопнулась с треском.
— Осерчала, — сказала Настя. — Это она меня жалеет, не любо ей, когда я про Петьку: боится — плакать начну, убиваться… А я уже не плачу, Петрович. Ты посчитай-ка, сколько годков минуло с того времени. И слез у меня не осталось…
Владимир Петрович провел ладонью по запотевшему стеклу. Снег все падал. В густой белизне его едва виднелся теткин сад с тремя яблоньками, реденькой изгородью, пустой собачьей конурой возле поленницы дров.
— А пес где? — безразлично спросил Владимир Петрович, лишь бы нарушить молчание.
— Сдох кобелек, еще по весне. От старости…
— М-м, — замычал Владимир Петрович, страдальчески кусая губы: у него заныло в груди.
— Ты что? — забеспокоилась Настя.
— Ничего, ничего, — Владимир Петрович сглотнул таблетку. — Сейчас полегчает…
— Война и тебя, поди, по головке не погладила, Петрович. Как погляжу я — совсем больной ты, даром, что видный собой. Ты на хронте был?
— Не довелось, Ивановна. Доктора забраковали.
— Чай, нутро?
— Да нет, другое. — Он на мгновение смутился, как смущался всегда, называя свою болезнь. — Плоскостопие у меня…
— Чаго? Чаго? — Настя сдвинула с уха платок.
— Плоскостопие, говорю… Ну понимаешь, плоские ступни у меня, ходить далеко не могу, ноги устают… Таких только в нестроевую берут.
Владимир Петрович сидел, опустив плечи, устало щурился. Все неуютней становилось ему в этой большой холодноватой хате. От выпитого мутило: сначала он пил коньяк, потом, по настоянию тетки, отведал сахарного самогона, и сейчас стучали в его висках докучливые молоточки.
Он вдруг обрадовался при мысли, что, в сущности, ничто его здесь больше не задерживает: надо ехать сегодня же, благо еще вполне можно успеть к вечернему поезду. Ему стоило немалого труда объяснить Насте, что он никак не может остаться: отпустило, мол, начальство всего на четыре дня и в пятницу надо обязательно быть на работе.
— Да как же ты с Дуней не повидаешься, — сокрушалась Настя. — И где ее леший давит? Да она меня съест поедом, что не задержала тебя.
Но понемногу ее причитания становились тише, и наконец она сказала Владимиру Петровичу, как ему послышалось, даже с облегчением:
— Оно, конечно, со службой не шутят, поезжай уж…
Вместе пошли к Антонычу. Он все еще не мог проспаться после выпитого у матери. Жена едва растолкала его. В сенях Антоныч вылил себе на голову ковш ледяной воды и заявил, что баранку будет держать надежно, а что касаемо винного духа изо рта, так это ничего — автоинспекции в их краях и в помине нет.
На прощанье Настя, заплакав, поцеловала Владимира Петровича, просила приезжать вдругорядь, но ни сама она, ни он не верили, что свидятся снова. Уже сидя в кабине, Владимир Петрович крикнул ей, чтобы передавала привет Дуне и наказала бы ей чаще писать ему на Урал.
За околицей Антоныч остановил машину. По заснеженной тропе они спустились в низину, миновали чью-то баньку с черными от копоти стенами и вышли на унылый кочковатый луг, посреди которого желваком выпирал из земли бугорок, а на нем возвышался дощатый обелиск с жестяной звездой на макушке.
— Это и есть Петькина могила, — сказал Антоныч.
Они сняли шапки и долго стояли в молчании. Снег падал на совсем белые волосы Владимира Петровича и на русую шевелюру Антоныча, в которой тоже уже проблескивала седина.
— Послушай-ка, — вспомнил Владимир Петрович. — А те, кого спас Петька, — председатель с сыном и учительница — живы они?
— Председатель помер лет десять назад. А сын его жив — заместо отца председательствует. Он-то и поставил памятник… Анна Петровна тоже жива, всю войну прошла, израненная, а жива… Не так давно приезжала, поплакала на Петькиной могилке…
И снова они тряслись по узкой ухабистой дороге, поднимались на горки, скатывались в лощины, выбивали дробь на бревенчатых мостиках через речки, и тарахтенье мотора их старенького грузовика было, наверное, единственным звуком в неоглядности безмолвных полей. Белая пелена за стеклами редела, тучи сыпали последние свои снежинки, и стало виднее вокруг, хотя день уже тускнел, супился и воздух начинал наливаться предвечерней синеватостью.
Ах эта белая, белая равнина! Кажется, на самом сердце твоем лежит она. Как она чиста, как покойна, как нема, как холодна! Но почему же, чистая, покойная, немая, холодная, так волнует она, так тревожит, обжигая печалью и радостью. Печаль о том, что в жизни не все получилось, что сбивало тебя с прямого пути в сторону, — печаль истинная. А радости не верь, она лишь одна видимость, лишь обманное обещание, что еще не все потеряно, постарайся — и все наладится, что как снег замел слякоть осени, так и время заметет, запорошит прожитые тобой дни, скрывая то, чего тебе не хотелось бы видеть, что вот как по этому нетронутому, без единой морщинки снегу можно проложить новый путь, так и жизнь можно начать сызнова, проложить по ней ровную стежку свежих следов.