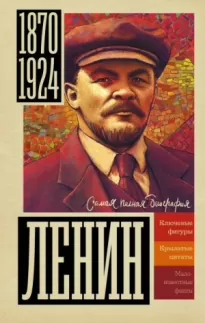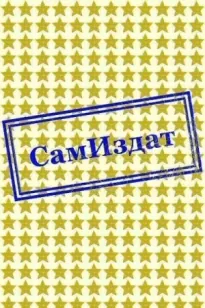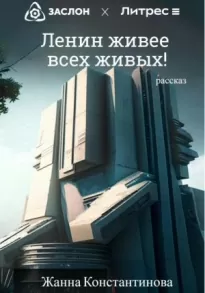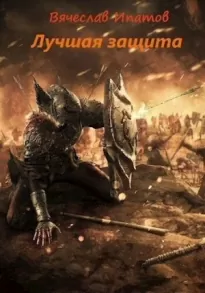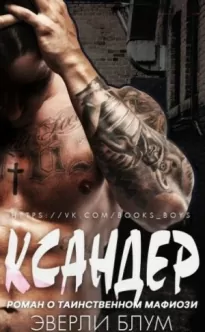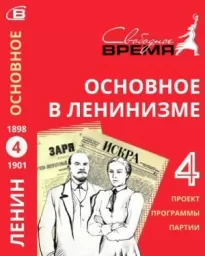Защита поручена Ульянову
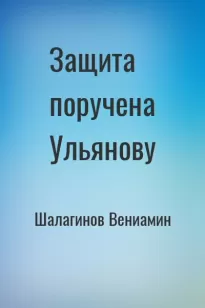
- Автор: Вениамин Шалагинов
- Жанр: Биографии и Мемуары
- Дата выхода: 1977
Читать книгу "Защита поручена Ульянову"
1
6 апреля 1964 года я получил доставленные из хранилища в читальный зал Центрального партархива две великан-папки, два картонных «чемодана» с делами, которые в 1892 - 1893 годах вел Ленин в Самарском окружном суде.
Клад!
Но к чувству праздничной взволнованности, которое тотчас прихлынуло и теснит меня, прибилась смутная горчинка сомнения: «То или не то?» «То» - значит, в папках подлинные дела царского присутствия, клад в натуре, «не то» - фотокопии дел, продукция фотографов, а не «дьяков».
Торопливо развязываю тесемки «чемодана».
То!
Посередине белого тонкого листа тяжкой гирей - казенный вензель с ятью «Дело»2. Под вензелем - буковки-таракашки:
«Самарского окружного суда по 1-му столу уголовного отделения о лишенном прав отставном рядовом Василии Петрове Красноселове, обвиняемом в краже».
Еще ниже:
«Началось сентября 15 дня 1892 года».
По верхнему срезу листа:
«№ 272 по настольному 1892 года Самарского уезда».
То!
Открыта первая страница - «Подготовительные к суду распоряжения», и уже на ней, на бумажке № 1, - имя Ульянова: три лихих неразборчивых завитка графитным карандашом - обозначение адвокатского «титула», и малюсенькая справка: «Ульянову о защите сообщено 25 февраля за № 1125».
Адвокат Ульянов.
Листаю лист за листом, и от сознания, что это те самые листы и то дело, которое семьдесят два года назад читал Ленин, приходит чувство счастливой растерянности, почти оторопи - он это штудировал, а вот тут подчеркнул, - чувство новое, сильное, похожее на то, что волновало поэта в зимних шушенских Саянах, когда из-под пера его ложилось на бумагу:
Благоговейно в домике-музее
Я у стола рабочего стою.
Тут Ленин жил, за этот стол садился…
Мыслители так и не сказали людям, что такое счастье, но люди и сами узнают его, когда оно приходит. Что и говорить, мне здорово повезло, и я знаю, каким словом это называется.
В 3 часа 30 минут пополудни 5 марта 1892 года Ленин впервые занимает место за адвокатским столиком.
Перед судебным присутствием - дело № 20 «о крестьянине Василии Федорове Муленкове, судимом за богохуление». В ажурной виньетке обвинительного акта - «пропись содеянного»: «12 апреля 1891 года в селе Шиланском Ключе Самарского уезда вошел в бакалейную лавочку крестьянин Василий Муленков. В лавке в то время находились крестьяне Михаил Борисов и Федор Самсонов: в разговоре с ними Муленков, будучи в нетрезвом виде, начал ругаться, причем матерно обругал богородицу и святую троицу…»
Мелкий уголовный случай… Да и уголовный ли? Скорей, обыденщина, серое, как шинельное сукно, полицейское происшествие для протокола урядника, для денежного штрафа, налагаемого без суда и следствия.
Грубое мужицкое слово, невежественное, - тридцать миллионов россиян пухло тогда от бесхлебицы, - пущенное с горя у лавочного хлеба, которого не купить, при мужиках, при своей же деревенщине, без умысла повредить вере, и вот - закрытая дверь, стража, чопорное трио коронных судей, брелоки, чернолаковые бутылки сапог, бороды клинышком, бороды лопатой… Суд.
Первое впечатление - защита легка и беспроигрышна. Нет умысла, а следовательно, и нет преступления.
Чтобы убедить в этом присяжных, достаточно потрясти над адвокатским столиком учеными книгами…
Умышленное преступление - это всегда нападение. Нападение на чьи-то права. И не ради самого нападения, а ради определенных преступных последствий. Вор ворует ие ради воровства, а ради чужой денежки. Убийца хочет чьей-то смерти. Чего же хотел Муленков в бакалейной лавке? Поколебать веру? Вздор. То, что он сделал, - некриминальное, неуголовное нарушение. Проступок…
Твержу про себя в тоне незатейливой детской дразнилки: «Нет умысла - нет преступления, нет преступления - нет наказания». Обвинение разваливается.
Но так ли? Ищу защитительную речь Ленина. Что в ней? Как он строил свою первую защиту?
На листе 42 судебного производства - сухая регистрация:
«Товарищ прокурора поддерживал обвинение, изложенное в обвинительном акте, и полагал определить Муленкову наказание по 2 степени 38 ст. Улож. о наказ. Подсудимый в свою защиту и в последнем слове снова сослался на состояние сильного опьянения, в котором он находился».
Странное умолчание о защитнике. «Товарищ прокурора», «подсудимый»… А где же защитник? Нельзя и помышлять, будто его не было вовсе. Это невозможно по правилам процессуального «обряда». Да вот и запись:
«По открытии заседания подсудимый занял место на скамье подсудимых под охраной стражи, защитником подсудимого был помощник присяжного поверенного Ульянов, избранный самим подсудимым».
Ни приговор суда, ни бумаги, подшитые до приговора и после него, - словом, ничто в деле так и не сказало, каким же было защитительное слово Ленина, что стояло в просительном пункте - ходатайство об оправдании, о внимании и великодушии к подсудимому?
Что ж это - пустота? Tabula rasa?
Не может быть!
Слова этой защиты, надо думать, действительно потеряны и для истории, и для права. Но мысль? Разве мысль гения когда-нибудь уходила, ничего не оставив? Она, без сомнения, оставила себя и в этом суде, в этом деле.
Но в чем же конкретно?
Очевидно, прежде всего в результате? Результат - главный плод мысли.
Читаю приговор. Наказание, назначенное Муленкову, сравнительно нестрого. Протокол добавляет к тому - позиция государственного обвинения еще снисходительней. Ситуация прямо-таки редкостная: после речи Ульянова Радковский, товарищ прокурора Самарского окружного суда, поднимается над столиком обвинения и просит наказать «богохульника» по 2-й степени 38-й статьи Уложения о наказаниях, а самарская Фемида бьет жестче, по 1-й степени, но и это «жестче» - не потолок санкции, а потому и сравнительно нестрого - год тюрьмы.
Что это? Доброе сердце? Попытка удержаться на хвосте под напором справедливой воинствующей защиты? Тогда почему не полное оправдание? Ведь лучшие умы правоведения российского (да и только ли российского?) требуют для преступления либо законопротивного умысла, либо законопротивной неосторожности, а тут ни того, ни другого. Так и пол-России можно упечь в тюрьму!
Многое объяснял сам уголовный закон. В нем не нашлось общего требования о «виновном умонастроении». К чему тонкости? Необходимо наказание без вины. Статья 180-я Уложения о наказаниях, поставившая мужика Муленкова перед присяжными, читалась так:
«Если будет доказано, что позволивший себе в публичном месте произнести слова, имеющие вид богохуления или же поношения святых господних или же порицания веры и церкви православной, учинил сие без умысла оскорбить святыню, а единственно по неразумению, невежеству или пьянству, то он подвергается заключению в тюрьме…»
Просто-то как! Скатилось с языка грубое мужицкое слово, «имеющее вид» (?!) богохульства - пускай без умысла, без желания оскорбить бога, пускай даже в споре за бога (бывало на Руси и такое), - и нате: 180-я! Суд за закрытой дверью, тюремное заключение. Если «возложение хулы на славимого в единосущной троице бога» совершено с умыслом - каторга до 15 лет (статья 176), а вот так, без умысла, без намерения оскорбить святыню - «просто» тюрьма.
Картина «мелкого случая», происшедшего в деревенской лавочке, живо вставала со страниц уголовного дела. Однако не только доказанность события и дичайшая несправедливость закона делали защиту трудной, почти «битой». Был и еще один усложнитель ее - царь. В бумагах суда - пострадавший только бог. В материалах предварительного следствия главное пострадавшее лицо - царь.
Мужик обидел царя. Об этом говорили:
лавочник-бакалейщик в доносе на имя полицейского
урядника 2-го участка Самарского уезда: «Муленков… выражался разными неприличными словами и обругал царя и бога скверно, матерно»;
сын лавочника на допросе у следователя: «В бакалейной лавке я читал книжку про убийство нашего царя. На обложке был нарисован портрет государя. Я показал его Муленкову Василию и сказал: «Ты знаешь, кто это такой?» Муленков после этого стал ругать царскую фамилию и пресвятую богородицу»;
урядник: «Муленков… начав… ругать пресвятую богородицу и троицу, затем ругал государя императора и его наследников, говоря, что государь неправильно распоряжается…»
Второе обвинение! Тайное, теневое, не предъявленное подсудимому. Ни в статье уголовного закона, ни в обвинительном акте его не было. За это не судили, но за это наказывали.
Как защитить мужика от того, в чем его не обвиняют, о чем лишь думают? Как защитить, если закон уже осудил и если приговор будет писать торговая Самара, верноподданническая, богобоязненная?
Гений Ленина нашел решение этой трудной задачи.
Но как? Что говорил он в своей первой судебной речи?
Снимаю с открытого стеллажа ленинский томик. Где-то говорилось о статье 180. Хотя и не прямо, помнится. Да вот:
«…существовали и применялись средневековые, инквизиторские законы (по сю пору остающиеся в наших уголовных уложениях и уставах), преследовавшие за веру или за неверие, насиловавшие совесть человека…» [3]
Слова эти написаны Лениным в декабре 1905 года. Но можно ли поручиться, что они не были сказаны им тринадцатью годами раньше на негромком тайном процессе сельского портного? Ведь средневековые законы, «по сю пору, остающиеся в… уголовных уложениях и уставах», - это и есть статья 180 и более тридцати ее сестер из глав и отделений уголовного закона о ересях и расколах, о богохулении и порицании веры, об уклонении от постановлений церкви и прочее и прочее. Это и первый раздел (именно первый!) Свода уставов о предупреждении и пресечении преступлений с подробнейшей регламентацией того, что должны делать… «губернаторы, местные полиции и вообще все места и лица, имеющие начальство по части гражданской или военной» для пресечения действий, «клонящихся к нарушению должного уважения к вере», с удивительно нелепым списком неправовых требований, обращенных к мирянам: «…входить в храм божий с благоговением, без усилия» (статья 3-я), во время присутствия в церкви императорской фамилии «пространство от места, где духовенство священнодействует, до мест, для нее назначенных, никому не занимать» (статья 5), не заходить во время службы в алтарь (статья 4) - с общим «высокоторжественным» принципом: «Мир и тишину в церкви должна охранять местная полиция» (статья 10).
Полиция? А бог? Разве сам бог, определяющий, по смыслу религиозной догмы, будущее миров и народов, императоров и простых тружеников, разве он, кому все доступно, бессилен защитить свое царство, своих слуг и нуждается в защите земного правосудия? Или не прав Фейербах? И кто-то способен с позиции веры и науки о вере опровергнуть его известное замечание о том, что «невозможно, чтобы божество было оскорблено, немыслимо, чтобы оно мстило человеку за оскорбления, нелепо, чтобы его можно было удовлетворить наказанием его оскорбителей…»?
Боюсь ошибиться, но что-то подобное я слышу в первом защитительном слове Ленина-адвоката.
Критика тогдашнего положения - это и была защита. Религия стала полицейской - так ее называл позже Ленин, - область права смешалась с религией, греховное стало называться преступным.