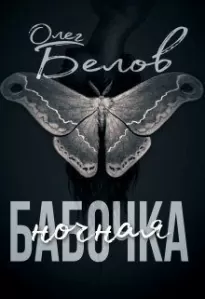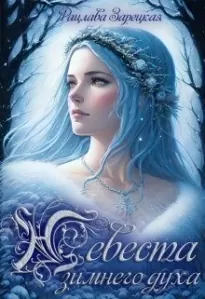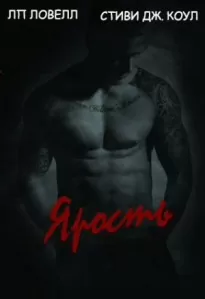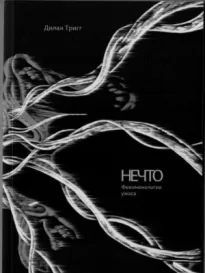Приспособление/сопротивление. Философские очерки

- Автор: Игорь Смирнов
- Жанр: Философия
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Приспособление/сопротивление. Философские очерки"
Фундамент индивидного закладывает вторичная травма, случающаяся в процессе психического созревания самости и дополняющая собой всечеловеческую травму рождения. Секундарный шок – в той мере, в какой все мы индивиды, – наследует примарному, то есть переводит общее в особое, становясь промежуточной ступенью между тем и другим. Травма, из которой вырастает индивидное, вводит его в класс, где оно экземплярно лишь в качестве варьирующего главные признаки данного множества. Психика обычно если и исключительна, то релятивно. Абсолютная исключительность выталкивает ее в зону патологии. Между тем быть индивидом – это норма среди людей. Стресс, испытываемый при рождении, вызывается необъятностью и неизведанностью бытия. Стресс, формирующий индивида, возбуждают помехи в бытовании (Dasein). Препоны такого рода затрудняют ведение жизни, каковая нуждается отнюдь не в безграничном числе условий для своего успешного осуществления. Вторичные травмы имеют типовые черты, а индивиды, соответственно, обладают характером, объединяющим их в группы. Так, травматичным для младенца может быть преждевременное отлучение от материнской груди, на что ребенок будет реагировать агрессивно, карая непослушный ему, но влекущий его к себе объект. Фиксация на наказании любимого объекта сформирует в результате садистский характер. Далеко не все индивиды, принадлежащие к этому психотипу, удовлетворяют свои склонности анально-эротическим путем, как то было изображено в романах маркиза де Сада. Садизм бывает и оральным, и генитальным, и проективным, помимо сексуальных притязаний индивида, не расставаясь во всех этих и иных своих проявлениях с насилием над объектом привязанности. Такое же разнообразие воплощений присуще и прочим характерам, скажем, истерическому или нарциссическому[315]. Как и в ответе на первотравму, травмированный во второй раз реагирует на нереализуемость своих интенций, овнутривая отрицание, обрушивающееся на самость, и превращаясь из пассивного восприемника неблагополучных обстоятельств в существо, активно компенсирующее постигшую его неудачу. Мы негативно идентифицируем себя с тем, что препятствует нам быть собой. Все характеры подобны в своем исходно отрицательном отношении к миру и разнятся друг с другом в том, каким именно оказывается для них «не-я»; оно не обязательно агрессивно (теория Анны Фрейд, писавшей о защитном интроецировании самостью того, кто ее атакует[316], нуждается в расширении), но всегда обнаруживает себя как камень преткновения для проведения в жизнь наших намерений. Индивидуальные травмы центрируют сознание на том, что для него неприемлемо и что должно быть каким-либо образом возмещено. Они канализуют сознание, подчиняя его некой определенной установке. Как правило, мы не догадываемся, откуда та взялась. Как бы ни было сужено индивидуализованное сознание, ему довлеет убеждение в том, что, вопреки своему происхождению всего лишь из пребывания в мире (Dasein), оно вправе претендовать на нечто большее, на адекватность и равносильность бытию, на решение той задачи, которую ставит нам первотравма, вовлекающая явившегося на свет в конфронтацию со всем, что ни есть. Чаяние объективности затемняет сознанию его частноопределенную в индивидуальном исполнении природу. Всяк мнит себя правым. Но эта непрозрачность не означает, что сознанием руководит его альтернатива, бессознательное. Нам противопоказано вникать в то, почему мы принимаем нашу субъективность за объективный взгляд на существующее, иначе реальность ушла бы у нас из-под ног. Характер есть сокращаемое психикой сознание, отказывающееся признавать свой редукционизм, который генерируется не подавлением влечений, а, как раз напротив, их осуществлением во что бы то ни стало, несмотря даже на непроходимый, казалось бы, барьер, мешающий их преуспеванию. Характер не выбивается из фактического положения вещей потому уже, что стремится завоевать реальность и вынужден с ней считаться. Но чем более идиосинкратической является персональная версия психотипа, тем более индивид, заключающий себя в свое в высокой степени особое сознание, заходит за рамки установившейся в обществе нормы. С точки зрения социума, не терпящего возмущений утвердившегося в нем порядка, трансгрессивная личность подлежит лечению (вспомним снова де Сада, брошенного в 1803 году в сумасшедший дом в Шарантоне). Сам же субъект, доведший до крайности свойства характера, к какому он принадлежит, ощущает свою аномальность в качестве болезненной только в том случае, если его соблазняет противоречащая его идентичности тяга быть как все, обратная тому протесту против социальности, которым подчас взрывается полностью было ею загипнотизированный среднестатистический человек. Психоаналитическая терапевтика нашла пациентов среди недосоциализованных лиц, тяготящихся своей неординарностью.
Если разрывающийся между психической идиосинкразией и порывом навстречу норме невротичен, то тот, кто наглухо запирается в своем душевном убежище, психотичен. В статье «Невроз и психоз» Фрейд поставил обе психические аномалии, о которых вел теоретическое рассуждение, в зависимость от бессознательного, то ли частично, то ли целиком отрешающего самость от реальности. Оно, однако, становится детерминантой поведения только у психотиков. Тогда как в сновидениях мозг воспроизводит по-своему работу сознания, патологии потому и однозначно исключают страдающих ими из социокультурного обихода, что обрекают интеллект, главную собственность, которой владеет homo sapiens, на подражание деятельности своего нейронального субстрата. Психотики нигилистичны. Интернализованное ими вследствие вторичной травмы отрицание распространяется на бытие во всем объеме, не ограничиваясь отдельной его стороной. Их вторичный стрессовый опыт таков, что демонстрирует им непреодолимость травмы рождения, неосваиваемость бытия сознанием, которому не остается ничего иного, кроме как обратиться за помощью к бессознательному (этим опытом может быть, к примеру, повторение шокового состояния на разных этапах психогенеза, подрывающее сам процесс душевно-умственного становления). Умалишенный – прямой антипод философа, надеющегося охватить бытие в головной конструкции. Разыгрывая роль ментальных репрезентаций, начиняющих мозг, метарепрезентации, орудия сознания, нагружают воспринятое сенсорно несвойственным тому смыслом, автотеличностью. Отдельные вещи для психотика – уже понятия. Галлюциногенность его представлений о действительности в том, что он приписывает ей ее собственный смысл, отчуждаясь тем самым от себя, от своего интеллекта, и в то же время будучи убежденным, что производит акт перцепции, который центрирован на «я». Патологическая психика не в силах разъять самость и Другого. Онейрический театр сменяется у психотиков слушанием «голосов». Другой невидим, он внутри вещей в качестве якобы имманентного им понятийного содержания, он только слышим. Потерявшееся сознание внимает радиовещанию мозга. Голоса, которыми оно наполняется, императивны, безусловны, так как условное значимо, только если ментальные репрезентации отличны от метарепрезентаций.
Существуют три основных вида психоза, соответствующие разным конфигурациям, в которых «я» соотносится с посторонним в нем. При паранойе «я» совпадает с Другим и переживает страх преследования себя тем, кто правомочен заступить его место. Для шизофреника – в обратной последовательности темы и ремы, Другой – это он сам. Больной шизофренией находится в такой психической ситуации, которой Грегори Бейтсон дал в начале 1950‐х годов имя double bind. Она отличается тем, что попавшая в нее личность не может остановиться на выборе одной из двух диаметрально противоположных возможностей, колеблется между ними, периодически впадая во фрустрационный ступор. Третья из основоположных форм психоза – диссоциативное множественное расстройство личности (multiple personality). Человек, страдающий этой патологией, вовсе не знает, какова его коренная самость; он идентифицирует себя сразу с несколькими «я»-образами, в которых одинаково чувствует себя собой. Для него и в «я» просвечивает Другой, и в Другом – «я». Все три психоза могут претерпевать контрапозиционирование. Паранойя преобразуется, как это проследил Лакан в своей докторской диссертации (1932), из «самонаказания», «центростремительного страха» в центробежную агрессивность, в преследование жертвы[317] (в stalking). На место кататонии у шизофреников приходит маниакальный бред, побуждающий их к нанесению вреда окружающим. Мультиплицирование личности перерождается в непримиримый конфликт между конформным «я» и девиантным alter ego (как в «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда» (1886) Роберта Льюиса Стивенсона). Контрапозиционирование патологий – попытка больных совладать с недугом, но не за счет превозмогания расстройства в собственной психике, а за счет нападок на враждебное психотикам бытие. Превращение в противоположное имманентно психозам, коль скоро инобытийность конститутивна для их субъектов, не справляющихся с бытием. Если психотик контрадикторен философу, то контрарен он монаху, находясь, как и тот, за гранью сего мира, но не с тем, чтобы ограничить себя в аскезе, а с тем, чтобы утвердить свое право на невоздержанность.
Сознание покоряет бытие в силу того, что рассматривает все непосредственно данное как замещаемое по примеру возведения представлений в метапредставления. Для психотика запредельное бытию и есть данность. Патологии, о которых идет речь, случаются только в человеческом мире, удваивающем себя в мире трансцендентном, но при этом они безосновательны. Они аннулируют реальность, предназначенную для бытия человека. Вразрез с ними ratio не опустошает то, что замещается. Неотрицаемость субституируемого в субституирующем требует мотивировать замещение, придать ему интеллигибельность, чем и занято сознание. В самом деле: зачем нужно совершать подстановку новой величины в позицию прежней, если та не подлежит безостаточному упразднению? Сознание признает, таким образом, работу, выполненную скапливающим и ассоциирующим впечатления мозгом, но не удовлетворяется ею, формируя метафизическую зону, планируя пока еще не обретшее плоть будущее, пребывая и здесь, в эмпирическом мире, и там, в параллельном ему, вероятностном. Коротко: сознание в своем максимуме креативно и исторично. Оно претворяет природу в социокультуру и сообщает последней поступательную изменчивость. Оно свободно и от природной необходимости, контрастируя с организмом, и от собственных творений, подвергаемых в истории рекреации. Фрейдовские «сгущения» и «сдвиги» и лакановские «метафоры» и «метонимии» – проекции принципиально тропического сознания, занятого переносом значений, в том числе и с себя на то, что оно, способное помыслить даже свое собственное замещение, считает бессознательным.
Человек восстает внутри себя, протест сокровенен ему, интропозиционирован. Мы бунтуем против нашей телесности, чему дает основание переход от представлений, которыми оперирует мозг, к метапредставлениям, которые, будучи упорядоченными, согласованными друг с другом посредством руководящих ими идей, составляют сферу Духа. В бегстве от плоти (которой мы готовы пожертвовать ради парадоксального избавления от смерти – сугубо духовного, мечтательного) мы охватываем окружающую нас действительность сетью понятий, отвлеченных от физических тел так же, как сам вырабатывающий их субъект абстрагирован от своего организма. В своих социально-политических воплощениях сопротивление, даже если его цели четко определены, прежде всего (прежде их достижения) отрицает конкретное, непосредственно данное, удерживая тем самым в себе, пусть и в снятом виде, то декорпорирование, какое производит восстающий в нас Дух. Именно потому, однако, что протестное сознание внутриположно нам, человек им не исчерпывается. В обратной связи с сознанием организм, репрезентантом которого выступает мозг, учиняет контрреволюцию бессознательного, мешающего деятельности Духа и перенимающего ее функции. Человек, таким образом, являет собой поле битвы между одинаково протестными сознанием и его антиподом. Ни та, ни другая стороны конфликта не вправе рассчитывать на безоговорочную капитуляцию противника, коль скоро нет бестелесного сознания, как нет и бессубъектного человеческого тела. Сознание и бессознательное втянуты во взаимодействие, иными словами – в приспособление друг к другу. За гегелевским «признанием» с его социальной угодливостью таится вознаграждение, которого требует мозг за свое жертвенно-беззаветное обслуживание разума. Мозг, отстаивающий интересы тела, подчиняется тому структурированию, какое навязывает ему активность Духа (в частности, как говорилось, отводя особый свой участок для сохранения информации, поставляемой языком и текстами). В свой черед, социокультура берет на вооружение опыт наших ошибок, онейрических фантазмов и даже безумия – когда позволяет своим избранникам в шаманских культах посещать загробный мир и возвращаться оттуда к живым. В отличие от животных человек приспосабливается не только к внешним обстоятельствам, но и в гораздо большей степени к самому себе. Как конформизм, так и нонконформизм в социокультурном поведении – лишь эпифеномены той схватки сознания и бессознательного в нас, какая чревата их соглашательством.