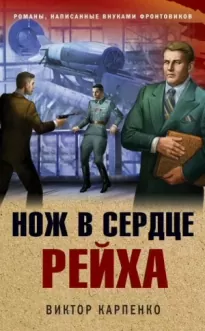Распутье

- Автор: Иван Басаргин
- Жанр: Историческая проза / Современные российские издания / Советская проза
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Распутье"
22
На висках Устина гуще засеребрилась седина. Злая отметина войны, продолжающейся войны. Говорил, что никого не убивал без боя, пришлось убивать, бандитов убивать. У них уже ничего за душой не осталось: ни идей, ни будущего. Волки с выкрошенными клыками, бешеные волки. Таких не убивать – тоже грех неотмолимый.
Иноходец Карька, дробно постукивая подковами по тракту, нес Устина в родные края. Следом труси́ли чекисты. Их осталось семеро. Лапушкин и Лагутин ушли из отряда, чтобы не быть опознанными. Устин и чекисты снова стали «бандитами».
– Зачем? – спрашивал себя Устин. – Зачем снова они стали «бандитами»? Неужели это был не последний бой?
Ехали ночами, ночью же подошли к Горянке, всполошили собак и людей, но проскочили деревню и ушли в тайгу. Устин вел отряд к заветному дуплу, чтобы сдать пулемет и винтовки. Сдать то, что было им незаконно взято у партизан.
Шли долго, продираясь через таежные дебри. Наконец у дупла. Устин сам отодрал кору, нащупал винтовки, отшатнулся и закрыл глаза. В дупле стояло всего лишь две винтовки и ящик патронов. Значит, Журавушка жив, Арсё с ним. Где-то затаились в тайге…
Удручённые, поехали к зимовью. Пусто. Облинявший колонок выскочил из окна и удрал в сопку…
И снова тесная камера, тягостные раздумья. Кто-то льет слезы по смелому борцу за Россию, которого-таки словили комиссары. А уж Саломея – это точно. Пётр Лагутин принес ей о том весть. Осиротятся дети. Если и не расстреляют Устина, то срок обязательно дадут и, похоже, немалый. Может быть, спасет амнистия? Но ведь он не сдался, продолжал воевать, пока не поймали. Расстреляют…
– Ну что, Устин Степанович, теперь уж не знаю, как тебя называть, гражданин Бережнов. А когда-то вместе ходили по лезвию ножа.
– Как хошь, так и называй. Унес винтовки Журавушка. Думаю, что с ним и Арсё. Это они расстреляли бандитов. Что дальше? Будут сидеть в тайге, нарветесь вы на них, вас перестреляют. Они спрятались где-то в очень глухом месте. Будем надеяться, что всё обойдется. Возвращусь домой, буду искать, чтобы их вернуть в жизнь.
Лапушкин устроил встречу с Шибаловым. Ивана было не узнать. Поседел, посерел, сник.
– Рассказывай, Иван, как ты оказался в этом же мешке? – спросил Устин.
– Хочешь правду?
– Да.
– Тогда слушай. Кому-то выгодно выставить меня в роли Лота, который жил со своими дочерьми. Тайга, мол, заневестились приемные дочки, вот Шибалов и стал Лотом. Чепуха это, Устин! Чепуха и то, что я хотел на своем самолете улететь в Японию.
Границу ты знаешь, чего же говорить? Здесь скрыт дальний прицел. Меня большевики боятся. Только почему, вот этого я не знаю. Был с ними, выгоняли, снова приходил…
– А ты думаешь за что? – перебил Устин.
– За мой язык. Если бы я им подавился, мне бы легче жилось. Хочешь знать, так я разъясняю мужикам правильность идей Ленина. Нужен государственный капитализм, нужна кооперация, вовремя сделали сельхозналог, пора «военного коммунизма» миновала, говорю и о том, что здесь немало противников Ленинского начала. Нет, это не американский демократизм, это совершенно новый строй, который не прочь жить в дружбе и с капитализмом. Правильно! Без капиталистических производств мы просто задохнемся, будем топтаться на одном месте, а еще больше – ошибаться. Капиталист – это грамотный хозяин. Кулак – это культурный мужик. Надо с теми и другими надолго заключить перемирие, тем более, что у нас в руках армия, телеграф и власть, наконец-то полная. Чего же бояться-то? Да, да перемирие, этак лет на сорок-пятьдесят, тогда к нам на поклон пойдут все страны. Сейчас же нам приходится кланяться. Мужик согласен с Лениным и готов за него драться насмерть, но кому-то выгодно сделать Ленина святым, мол, он не ошибался и не ошибется. А Ленин правильно говорит, что никто не застрахован от ошибок. Но, что бы ни говорил Ленин, это доходит до мужика. Значит, мужик, пусть не открыто, ибо наш мужик говорить не умеет, но душой принял Ленина и его программу, программу большевиков.
А потом, мужики по разным делам идут ко мне: то бумагу кому-то написать, то похлопотать за своего сына, который оказался в бандитах. Порой и брякну о наших большевиках, которые больше пыжатся, чем работают. Им учиться надо, а не делать вид, что они всё знают. Сказанное, конечно, тут же обрастает недобрым комом. Всё это работает против меня. Хорошо, Пётр Лагутин грамотен, но ведь не настолько, чтобы подняться до высоты начальника милиции. Но этот учится, учится у народа, видел я у него гору книжек, растит из себя коммуниста. Похвально. А Сланкин, наш председатель райисполкома, тот ведь письма́ без ошибок написать не может, но никогда я его не видел за книжками, говорит он косноязыко, путано. А чаще стучит кулаком и грозит врагам нашим револьвером. Разве это тип будущего государственного руководителя? Помнишь, я тебе говорил о государственной машине, которую могут развалить большевики? Так вот они ее развалили. Теперь отлаживают заново. Но раз взялись отлаживать, то уж надо это делать во всю силу, не окриком, а умом, как это делал Шишканов. Учился быть руководителем государства. Тогда я не верил, что им, государством, может руководить кухарка, теперь верю, если та кухарка засыпает с книгой. Не боги горшки обжигают.
– Почему бы тебе с твоей грамотностью не стать государственным деятелем? – спросил Устин.
– Причин много, но главная из них, что я не смог и не смогу до конца принять большевиков, хотя действий против них не проявляю, как это делал ты.
– Настраивать мужиков против безграмотного Сланкина – разве это не действия?
– Я говорю правду и только правду. И здесь я начинаю понимать, что самое страшное в наше время – это говорить правду, трогать чувства безграмотного Сланкина. Ему, ясное дело, обо всем доносят. И он нашел ход, вымарал меня в такой грязи, что и за сто лет не отмыться. Что может быть хуже того, что мне пришили? Да, дочки любят меня. И когда узнали, в чем меня обвиняют, старшая, как мне передавали, стала психически больной. Они дворянки, чувствительности им не занимать. Обычная девушка плюнула бы на все эти наговоры и жила бы себе спокойно. Сланкин тонко понял, что этим можно отвадить от меня мужиков. Теперь ко мне они не пойдут. Говорил о высоких материях, внушал им правильность политики большевиков, а сам, сам оказался сожителем с приемными дочерьми. Подлецом и сволочью оказался. Вот и ты мне не веришь, смотришь на меня волком, хотя сам из той же стаи. Даже тебе, если уж говорить честно, бандиту, о котором говорят, как об убийце, такое противно. Чего же взять с простого мужика? Он теперь обойдет меня за сто верст.
– Об этом мне высокий начальник говорил. Затравить человека проще простого, а вот сделать его человеком снова, почти невозможно. Ты считаешь, что из тебя уже сделали крайнего?
– Нет сомнений. Я – солдат, и ты – солдат, перед тобой-то я уж не стал бы кривить душой, сказал бы, как на духу. Не было греха и не будет. Убрали меня тонко и умело. Судить будут лишь только за сожительство с дочерьми. Убийство корневщиков, самолет – все это не доказано. Да и не было там состава преступления.
– Говорят, у тебя денег много? Откуда они?
– Тебе ли задавать такой вопрос? С охоты. Потом, я стал неплохим корневщиком, нашел плантацию женьшеня, выкопал, можно сказать, озолотился.
– Свидетели есть?
– Нашлись. Кто-то видел меня с дочкой на охоте. Дело обычное, мы и с женой ходим. Одному ходить по тайге, сам знаешь: упал, ногу подвернул, кто-то напал… Один есть один.
– Я тебе верю, Иван.
– А что мне твоя вера? Теперь, кто бы что бы обо мне хорошего ни говорил, всё это будет зависать в воздухе. Эту грязь не отмыть. Отсижу свое, снова в тайгу, зароюсь, отгорожусь и буду жить, но уже не так, уже не там, потому что не смогу открыто смотреть в глаза людям. Заткнули рот навсегда. Вот тебе и Сланкин!
– А я хотел у тебя чуть правды занять, поискать, как ищут бабы друг у друга вшей, – усмехнулся Устин.
– Не надо, о правде я тебе больше ничего не скажу. Правда меня убила. Уже не воскресить. Но не думай, что я стал Фомой неверующим. Если там, наверху, – Шибалов показал в потолок, – и задумываются добрые дела, то здесь, на низу, – бросил он палец в пол, – те дела извращаются, опошляются и подаются народу в искаженном виде, как человек в кривом зеркале. Прощай! Постучи, пусть отведут меня в камеру. Задыхаюсь!..
Устин долго шагал по камере. Вошел Лапушкин.
– Ну что, признался тебе Шибалов в своих грехах?
– И не стыдно вам у меня такое спрашивать? Если бы даже и признался, то всё равно я бы вам ничего не сказал. Скажу другое: если мы будем ломать таких, как Шибалов, Русь скоро обеднеет, людьми обеднеет, правдой тоже. Если бы, гражданин следователь, если бы я рассказал вам о себе, о Шибалове, о моих друзьях, моих метаниях, то вы стали бы мудрее, старше бы стали и еще больше бы полюбили свой народ и Россию.
– А вы расскажите, я тоже плохо стал спать ночами, буду приходить и слушать вас, Устин Степанович.
– Хорошо, я расскажу, только вы это не записывайте, а памятью сердца берите.
– Согласен.
И пошли ночи, то лунные, то хмарные, то звездастые. Устин рассказывал о себе, о друзьях, о России. Ничего не таил. А чего таить, тем более от понимающего человека? Ведь следователи тоже люди, нередко с тонкой душой и чутким сердцем. Таким оказался Лапушкин. И это еще раз опровергает мнение, что, если следователь пускает слезу, такому, мол, не место в органах.
– Самое страшное, Костя, это когда тебя пронизывает боль за всю Россию. Страшная боль. Но эту боль не в твоих силах унять. Боль за свой народ, за дела неправедные. Вот и мечешься, а выхода-то из этой клетки нет. Она накрепко закрыта. И такие люди не живут долго, Костя, не живут. Они либо бросаются очертя голову под пули, либо затаиваются и медленно умирают. Вот так же медленно будет умирать Шибалов, который и принял, и не принял большевиков. А вот Ленина принял, поверил в его мудрость.
– Но ведь Ленин – это и есть большевики!
– Оно-то так, но далеко не так. Таких, как Ленин, – меньшая половина, а может быть, просто единицы, и меня страшит, что он болен. Очень страшит. Грустно будет нам, когда не станет Ленина, этого смелого и мудрого человека. Человека, который повел народ за собой. А кто и как поведет его дальше? Троцкий? Не нравится мне Троцкий, слишком много говорит. Каменев? Его мужик любит, он их защитник. Может быть, Каменев. Но только если умрет Ленин, то Россия останется сиротой. Ты уж поверь мне. Я тебе рассказал о себе все, ты понял, принял меня, теперь просто поверь.
– Да, вы теперь стали мне понятны. Понятен и Никитин. Вчера он звонил нам, настаивал на расстреле.
– Сила на стороне Никитина. Это один из тех представителей вашей партии, которого я под расстрелом не назову ленинцем.
– Завтра суд. Держись, Устин Степанович.
– Смешной ты, Костя. Следователь подбадривает меня, будто защитник.
– Зря вы отказались от защиты.
– А чего меня защищать? Вина есть, пусть суд рассудит, так ли уж она велика, и воздаст по заслугам.
Завтра суд. Завтра исповедь за свои деяния, за свое прошлое. О добрых делах не стоит и говорить. Тем более пытаться оправдать себя. Зачем?
– Буду говорить, о чем болит и болела душа.