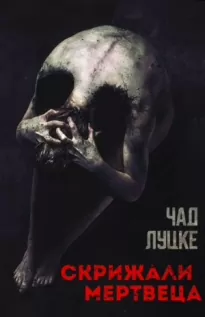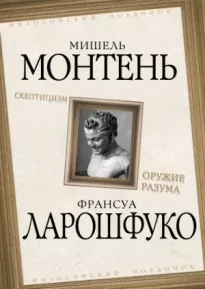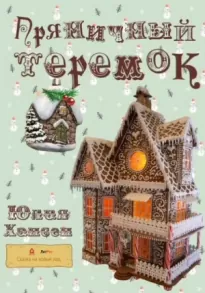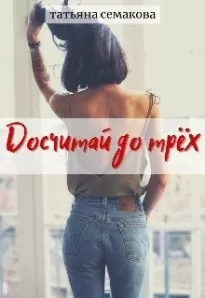История и память
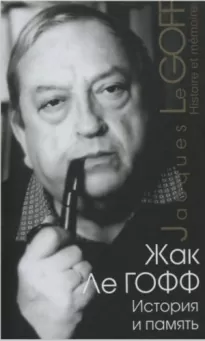
- Автор: Жак Ле Гофф
- Жанр: Научная литература
Читать книгу "История и память"
Нужно ли и можно ли выбирать между объективной историей-знанием и историей воинствующей? Нужно ли приспосабливать научные схемы, выработанные усилиями Запада, или следует изобретать как некую историческую методологию, так и некую историю?
Запад, со своей стороны, в результате этих испытаний (Вторая мировая война, деколонизация, потрясения мая 1968 г.) задается вопросом, не разумнее ли было бы отказаться от истории? Не составляет ли она часть тех ценностей, которые и привели к отчуждению и несчастью?
Отвечая ностальгирующим по жизни без прошлого, Жан Шесно напомнил о необходимости подчинить себе историю, но предложил при этом делать «историю ради революции». Таково одно из возможных завершений марксистского учения об объединении знания и практики. Если, как я полагаю, история, при всей своей специфике и подстерегающих опасностях, все-таки является наукой, то ей следует избегать полного отождествления истории и политики - старая мечта историографии, которая должна помочь исторической работе подчинить себе свою зависимость от общества. Без этого история будет худшим из инструментов в руках любой власти.
Более тонким представляется интеллектуальный отказ, который, как видно, выражает структурализм. Прежде всего я хочу сказать, что, как мне кажется, опасность в первую очередь исходила - и она не исчезла полностью и сейчас - от некоторого социологизма. Гордон Лефф (Gordon Leff. P. 2) справедливо заметил: «Наскоки Карла Поппера на то, что он совершенно неправомерно называл историцизмом в общественных науках, навели, кажется, страх на целое поколение; в сочетании с влиянием Толкотта Парсонса они сделали социальную теорию - во всяком случае, это несомненно по отношению к Америке - до такой степени неисторичной, что зачастую кажется, будто она вообще не имеет никакого отношения к земле, населенной людьми».
Как представляется, Филип Абраме десятью годами позже точно определил отношения, сложившиеся между социологией и истори-ей427, примкнув к идее У. Г. Рансимана, для которого не существует серьезного различия между историей, социологией и антропологией, но только при условии если они не сводятся к обедняющим их точкам зрения: либо к своего рода психологии, либо к общности, объединяющей различные виды инструментальных приемов.
Мне кажется, что, наоборот, только искажение структурализма может стать причиной превращения его в неисторизм. Здесь не место детально изучать оценки Клода Леви-Стросса. Как известно, они сложны. Нужно перечитать такие объемные тексты, как «Структурная антропология» (I, I. Р. 3-33), «Первобытное мышление», «От меда к пеплу». Ясно, что в своих размышлениях Леви-Стросс зачастую с одинаковым успехом обращался как к исторической дисциплине, так и к пережитой истории: «Мы можем оплакивать тот факт, что существует история»428, однако как наиболее приемлемое выражение его размышлений по этому поводу я вижу в следующих строчках «Структурной антропологии» (I. Р. 32): «Когда они находятся в пути, по которому уже прошли, двигаясь в одном и том же направлении, равное расстояние, то отличает их друг от друга только их ориентация: этнолог идет вперед и старается достичь бессознательного, к которому он направляется, пробираясь сквозь сознательное, которым он никогда не пренебрегает, тогда как историк продвигается, так сказать, пятясь, не отрывая глаз от проявлений конкретных и специфических форм деятельности, от которых он отдаляется лишь для того, чтобы рассмотреть их под углом зрения, позволяющим составить более богатую и полную картину увиденного. Настоящий двуликий Янус, но именно в этом, во всяком случае, и состоит общность интересов этих двух дисциплин, что позволяет сохранять перед глазами весь пройденный путь».
И все же существует структурализм, с которым историки могут поддерживать диалог: это генетический и динамический структурализм швейцарского эпистемолога и психолога Жана Пиаже, по мнению которого структурам присуща способность к эволюционированию. Но точно так же, как диахрония лингвистов не тождественна времени истории, эта эволюция структур не является тем же самым, что и движение истории. Тем не менее, сопоставляя, историк может здесь обнаружить средства для прояснения своего собственного объекта.
Если история и способна одержать верх, отвечая на этот вызов, то в результате она отнюдь не в меньшей степени сталкивается сегодня с серьезными проблемами. Я напомню о двух, одна из которых носит общий характер, а другая - частный.
Большая проблема - это проблема глобальной, всеобщей истории: вековое стремление к созданию истории, которая была бы не только универсальной, синтетической - старое начинание, от древнего христианства ведущее к немецкому историцизму XIX в. и к бесчисленным всеобщим историям, представляющим собой историческую популяризацию и возникшим в XX в., - но и целостной и завершенной, как говорил Ла Попелиньер, или глобальной, тотальной, как утверждали «Анналы» Люсьена Февра и Марка Блока.
Сегодня существует некая «панисторизация», которую Поль Вен рассматривает как второй со времен античности великий сдвиг в исторической мысли. После первого сдвига, имевшего место в греческой античности и побудившего историю, отказавшись от коллективного мифа, отправиться на поиски бескорыстного познания чистой истины, уже в современную эпоху произошел второй, и причина его в том, что историки «постепенно осознали тот факт, что все достойн внимания истории: любое племя, каким бы малочисленным оно н было, любой человеческий поступок, каким бы незначительным он нам ни казался, достоин исторической любознательности» (Veyne, 1968. Р. 424).
Но способна ли столь ненасытная история осмыслить и структурировать всю эту целостность? Некоторые полагают, что прошло время истории, состоящей из кусочков (histoire en miettes). «Мы переживаем взрыв истории», - писал Пьер Нора, основывая в 1971 г. серию «Библиотека Историй». Получалось, что можно заниматься не историей, а историями. Что касается меня, то я размышлял о пр вомерности применения и о пределах «множественных подходов в истории», а также о том, насколько было бы интереснее за неимением всеобщностей (globalités) как таковых использовать в качестве тем для исторических исследований и рефлексий объекты, отличающиеся всеобщим характером (см.: Le Goff, Toubert).
Проблемой частного порядка является ощущаемая многими -создателями или потребителями истории - необходимость возврата к политической истории. По поводу этой необходимости я полагаю, что при условии обогащения ее новой исторической проблематикой эта новая политическая история была бы историко-политической антропологией429.
Ален Дюфур , взяв за образец работы Федерико Шабо, посвященные миланскому государству времен Карла V, ратовал «за более современную политическую историю», программой которой стало бы «понимание причин возникновения современных государств - или современного государства вообще - в XVI и XVII в.; при этом нужно было бы суметь отвлечь наше внимание от государя и обратить его на политические круги, на зарождающийся класс чиновников, с его этикой нового типа, на политические элиты в целом, более или менее явные устремления которых обнаруживались в той политике, которую традиционно называют именем государя, выступающего ее знаменосцем» (Dufour. Р. 20).
Превосходя проблему новой политической истории, возникает проблема места, которое следует уделить событию в истории в двояком смысле этого слова. Пьер Нора показал, как современные средства массовой информации создали новое событие и новый статус с бытия в истории: имеется в виду «возвращение события».
Но и это новое событие не обходится без конструирования, резуль татом чего является любой исторический документ. Более того, вытекающие отсюда проблемы становятся сегодня еще более серьезными. Совсем недавно Элисео Верон в одном замечательном исследовании проанализировал способ, посредством которого средства массовой информации сегодня «конструируют события». На примере аварии, произошедшей на американской атомной станции Three Miles Islend (март-апрель 1979 г.), он показал, насколько в случае, типичном для технологических событий, становящихся все более многочисленными и значимыми, «трудно выстроить некое актуальное событие, рассказывая о насосах, вентилях, турбинах и особенно о радиации, которая не видна». Отсюда следует стоящая перед средствами массовой информации необходимость преобразования (transcription) текста: «Именно дискурс - в особенности на телевидении - поучительного характера, должен преобразовывать язык технологии в язык информации». Но дискурс, определяемый многочисленными средствами массовой информации, таит в себе все возрастающие опасности в плане формирования памяти, которая является одной из основ истории: «Если печатная пресса представляет собой источник умножения способов конструирования, то радио следует за событием и определяет характер его освещения, в то время как телевидение дает изображения, которые останутся в памяти и обеспечат придание единообразия общественному воображению». Мы обнаруживаем то, что всегда являлось «событием» в истории, - как с точки зрения истории пережитой и отложившейся в памяти, так и истории научной, созданной на базе документов (среди которых событие как документ занимает, я это повторяю, главное место). Таким образом, именно результат некоего конструирования образует историческую судьбу обществ и обеспечивает достоверность исторической истины - основы исторической работы: «В той мере, в какой наши решения и повседневная борьба детерминированы главным образом информационным дискурсом, становится очевидно, что ставкой в полном смысле становится будущее нашего общества» (Veron. Р. 170).
На почве вызовов и возникающих вопросов в недавнее время в кругу историков наметился некий кризис, который можно воспринимать как образцовое выражение дискуссии между двумя англосаксонскими историками - Лоуренсом Стоуном и Эриком Хоббаумом, опубликованной в журнале «Past and Present».
В эссе «The Revival of Narrative»430 Лоуренс констатирует возвращение в истории к повествованию, причину чего он видит в неудаче, которая постигла детерминистскую модель исторического объяснения, а также в разочаровании, порожденном скудными результатами количественной истории, обусловленным структурным анализом освобождением от иллюзий и традиционным и даже «реакционным» характером понятия «ментальность». В заключении, представляющем собой кульминацию двусмысленности проведенного анализа некоего понятия, которое само выглядит двусмысленным, Лоуренс Стоун указывает на «новых историков» как на тех, кто вызвал перемены в подходе к истории, из истории детерминистского типа якобы превращающейся в традиционную историю: «Повествовательная история и индивидуальная биография выглядят воскресшими из мертвых».
В ответ Эрик Хобсбаум возразил ему431, что и методы, и ориентации, и продукция «новой» истории ни в коей мере не означают ни отречения от «великих вопросов, ни отказа от исследования причин присоединения к "принципу недетерминированности"». Это «продолжение исторических исследований прошлого другими средствами». Хобсбаум справедливо подчеркивает, что новая история сначала ставила своей целью расширение и углубление научной истории. Она, бесспорно, столкнулась с проблемами, ограничениями, а возможно, и с тупиками. Однако она продолжает расширять поле и методы истории. И именно Стоун не сумел увидеть то подлинно новое, «революционное», что можно обнаружить в современных ориентациях истории: критику документа, новый способ понимания времени, новые отношения между «материальным» и «духовным», исследования феномена власти не только с узко политической точки зрения, но и во всех его формах.