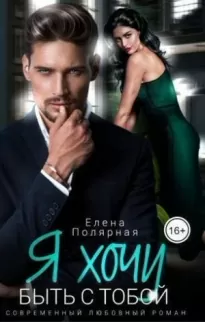Вечерний спутник

- Автор: Гайто Газданов
- Жанр: Русская классическая проза
- Дата выхода: 2009
Читать книгу "Вечерний спутник"
* * *
Я покидал юг с двойным на этот раз сожалением, потому что, помимо личной неприятности — вернуться в Париж, — судьба опять ставила меня перед необходимостью войти в ту безотрадную область, центром которой был мой спутник. Ему вновь стало хуже, он кутался в широкое пальто, хотя стояла почти тропическая жара. Его вышли провожать хозяйка и Христина. Мы уехали, я оборачивался несколько раз, и до поворота дороги все смотрел на эти две фигуры и задумался об этом настолько, что, может быть, лишь через минуту до меня дошел, наконец, тихий шелест мотора и сухое лепетанье шин по раскаленной дороге. Проехав Ниццу, я нажал на акселератор и пустил автомобиль почти полным ходом. Рука старика коснулась моего плеча, — он сидел теперь не сзади меня, как в прошлый раз, а рядом со мной.
— Можете не спешить, — сказал он, — в этом больше нет необходимости.
Я несколько замедлил ход.
— Как бы вы сказали, какой она национальности? — спросил он меня.
Я ответил, что затруднился бы это определить. Единственно, в чем я уверен, это — что она не француженка либо провела детство за границей.
— Испанка, — отрывисто сказал старик.
Мы проехали несколько сот метров. Солнце стояло высоко; влево от дороги бесконечно сверкало и морщилось море.
— Вы ломали себе голову, — сказал старик, — над тем, что все это может значить.
Он улыбнулся; я повернул голову и увидел его пустые и далекие глаза. Потом он плотнее запахнулся в пальто, сложил свои руки в нитяных черных перчатках и начал говорить.
Он объяснил, прежде всего, что обратился ко мне, потому что не хотел никого решительно посвящать в историю этой поездки — ни своего шофера, ни кого бы то ни было другого — и еще потому, что он ненавидел и презирал газеты, которые не замедлили бы узнать об этом. Мысль о том, что об этом можно попросить меня, пришла ему внезапно, именно тогда он спросил, умею ли я править автомобилем. Дальше он объяснил, в лаконических, но лестных для меня выражениях, что он чувствовал ко мне доверие и вообще считал меня совершенно порядочным человеком. Я прервал его:
— Я не могу высказываться о других ваших суждениях, я не имею на это права. Но в данном случае вы ошибаетесь, это я знаю твердо.
Он объяснил, что имел в виду только отрицательные достоинства, то есть что я не буду стараться извлечь из этого пользу, не стану просить за это деньги, — что было бы не так важно, но неприятно, — не обращусь к нему в свою очередь за протекцией. Но что, если мне доставляет удовольствие считать себя непорядочным человеком, он ничего против этого невинного желания не имеет.
— Я поехал сюда, — сказал старик и звучно проглотил слюну, — это моя предпоследняя поездка, потому что в следующий раз меня повезут уже иначе.
И я сразу представил себе траурные занавесы над дверью его дома в Париже, толпу любопытных на тротуаре, полицейские кордоны и медленное шествие вниз по Елисейским полям.
— Но для того, чтобы объяснить причину этой поездки, — сказал он, глядя прямо перед собой, — нужно вернуться на много лет назад.
И он стал рассказывать изменившимся голосом, — и я уловил в этом изменении бессознательно, быть может, употребленный прием человека, произнесшего в своей жизни тысячу речей, — о том, как он познакомился и сошелся с женщиной, которую мы только что покинули. Он встретил ее на скачках, попросил, чтобы его ей представили. Она была на двадцать лет моложе его, отец ее… Впрочем, биографические подробности, как он сказал, не имеют никакого значения. Она была замужем, у нее не было детей. Она оставила мужа. Самым удивительным ему казалось то, что об этом единственном и прекрасном романе его жизни, — таком, в котором он не хотел бы изменить ни одного слова, — было нельзя рассказывать так, чтобы это мог понять другой человек. Она была единственной женщиной, которая не воспользовалась ни одной из возможностей, которые ей давало ее положение. Они не жили вместе — это было невозможно по многим причинам, — иногда они не виделись долгими месяцами, но в самые трудные минуты его жизни она неизменно была рядом с ним. Он очень давно, по его словам, знал, что он ни на кого не может положиться, что в его падении его никто не поддержит; но он знал также, что она никогда не изменит ему. Сквозь всю его жизнь проходила ее легкая тень. Она была всегда ровна, всегда ласкова и немного насмешлива и даже говорила, что не очень любит его. Но в день его очередной дуэли она неизменно оказывалась в Париже, приезжая из Испании, или Англии, или Beaulieu, которое она особенно любила.
Так проходила жизнь, и постепенно, с каждым годом, то небольшое количество мыслей, вещей и людей, в которое старик верил, становилось все меньше и меньше, — и вот уже много лет, как от него ничего не осталось.
Он был слишком умен, чтобы сказать, что положительных ценностей вообще не существует, — он только пояснил, что для него их нет. Это — как развалины; другие смотрят на них, и их воображение строит над ними громадные города, исчезнувшие во мраке времен, — а он видел только осыпающиеся камни, и больше ничего. Он не жалел ни о чем, как он сказал мне; и то, что он вскоре должен был покинуть этот смрадный ад, в котором прожил такую бесконечно долгую жизнь, должно было скорее радовать, чем огорчать его, если бы он еще мог ощущать радость. Нет, у него не было желания что-либо переделывать или пытаться изменить в нем, как на это надеется особенная категория людей, которые являются просто невежественными сумасшедшими, вербуются из неудачников, убийц и дегенератов и которых деятельность субсидируется разжиревшими буржуями. Нет, никакого желания помочь всем этим людям у него не было. — Пусть околевают, пусть околевают, ничего лучшего они не заслуживают. — И вот, за последние полвека, за эти пятьдесят медленных лет, он знал одно чувство, которое ему не изменило, которое нашло себе такое идеальное, такое совершенное воплощение. Он замолчал; за очередным поворотом дороги блеснуло и исчезло море.
— Я не мог умереть, не попрощавшись с ней; это была моя последняя и самая важная обязанность. Теперь я один.
Мы ехали на этот раз совсем медленно, и это имело некоторый смысл — для него, потому что ему действительно не стоило торопиться, и для меня, потому что мне было жалко уезжать. Меня вдруг охватило желание вернуться в Beaulieu, поговорить с этой женщиной, попытаться понять ее и ее жизнь, и я почувствовал безумную жажду постигнуть самое главное, самое основное в этих двух существованиях — но не то, что можно рассказать в нескольких фразах, а другое, недоступное объяснению и пониманию, которое вдруг предстало бы мне в одном изумительном по ясности, в одном недолгом и ослепительном озарении. Но это было невозможно.
Старик между тем вспоминал всякие подробности о своей жизни с этой женщиной, ему было жаль расставаться с этой темой, — а он ничего не жалел обычно, — но это была единственная гармония, которую он знал, потому что во всем остальном его обступала со всех сторон та мертвая и беспощадная тишина, которая являлась его окончательным уделом. Но вдруг в этой тишине воспоминаний возникло еще нечто, для меня совершенно неожиданное.
— Я не могу вспомнить, — сказал он, — одно замечательное стихотворение, которое мы читали с ней однажды, — очень наивное и светлое; была еще хорошая погода; это было в начале нашего знакомства. Прекрасное стихотворение, по-моему, Бодлера. Вы должны его знать. Я помню только три первых слова: Lorsque tu dormiras… и не могу вспомнить дальше.
— Я знаю это стихотворение, — сказал я, — но только оно чрезвычайно далеко от наивности. Это очень печальные и зловещие стихи.
— Напомните мне, — сказал старик.
Я закрыл глаза, сделав привычное усилие, и сейчас же увидел перед собой эту страницу. Я помнил ее наизусть[11].
Lorsque tu dormiras, ma belle tenebreuse,
Au fond d'un monument construit en marbre noir
Et lorsque tu n'auras pour alcove et manoir
Qu'un caveau pluvieux et qu'une fosse creuse;
Quand la pierre, opprimant ta poitrine peureuse
Ex tes flanes qu'assouplit un charmant nonchaloir,
Empechera ton coeur de battre et de vouloir,
Et tes pieds de courir leur course aventureuse,
Le tombeau confident de mon reve infini
(Car le tombeau toujours compendra le pofcte),
Durant ces grandes nuits d'ou le somme est banni,
Те dira: «Que vous sert, courtisane impartaite,
De n'avoir pas connu ce que pleurent les morts?» —
Et le ver rongera ta peau comme un remords.[12]
— Да, вы правы, — сказал он, — почему же мне всегда казалось, что было в этом стихотворении нечто мажорное?
Он задумался и сказал, улыбнувшись:
— Да, конечно, — и это потому, что в ту минуту, когда мы его читали, мы были счастливы.
Он в первый раз за все время употребил это выражение — «мы были счастливы». Я сбоку быстро посмотрел на него: он сидел, запахнувшись в пальто, сложив свои неподвижные руки в перчатках на коленях, грузно оседая на подушки автомобиля и глядя перед собой своими ужасными, пустыми глазами.