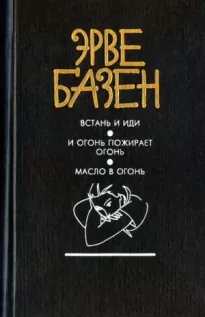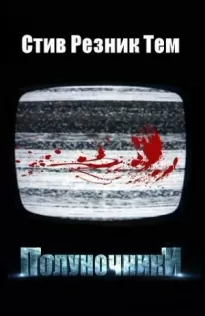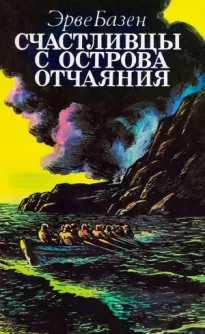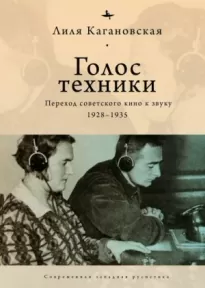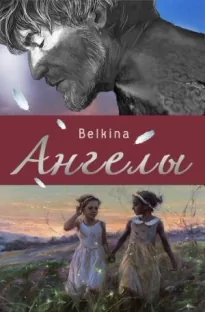Что такое кино?
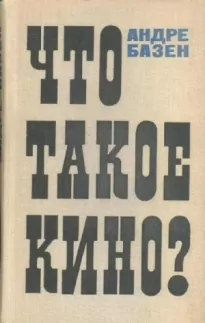
- Автор: Андре Базен
- Жанр: Самиздат, сетевая литература
- Дата выхода: 1972
Читать книгу "Что такое кино?"
(<< back)
46
«Высшая свобода от биографического и социального времени, уносящего нас своим течением и порождающего у нас сожаления и беспокойство, выражается у Чарли – с помощью великолепного и обыденного жеста…» — Настоящая статья существенна для концепции Базена и знаменательна тем, что онтологические свойства кинозрелища (гибридность времени и целостность «факта») он пытается рассматривать как категории драматические, как категории сюжетного действия, то есть онтологию пытается превратить в язык. Система значащих моментов в фильмах Чаплина идеально соотносится с онтологическими свойствами, отмеченными выше, — такой вывод напрашивается по прочтении статьи. Существованию квантов длительности во времени линейном, во времени бесконечного механического повторения соответствует у Чаплина «высшая свобода от биографического и социального времени». Время в картинах действительно распадается на кванты, не имеющие продолжения: «Чарли всегда удовлетворяется временным решением, словно будущее для него не существует»; у Чарли есть «тенденция: не выходить за рамки текущего мгновения» ; традиционный для Чарли пинок ногой «выражает постоянное стремление… разорвать связь с прошлым, сжечь за собою мосты». Ограниченные настоящим, фрагменты действия способны автоматизироваться, имеют склонность бесконечно повторяться — Чарли впадает в грех «повторяемости». Здесь драматургически, сюжетно использована способность кино «мумифицировать» отдельный отрезок какого–нибудь процесса. Но автоматизм, повторяемость действия приходит в столкновение с социальным временем среды, то есть с длительностью; в подобной коллизии Базену видится один из основных источников драматического напряжения в картинах Чаплина. Ограниченность во времени приводит и к тому, что «действия Чарли слагаются из последовательности отдельных моментов, каждый из которых замкнут в себе самом» — отсюда мы закономерно приходим к «факту» (см. примечание к статье «Смерть после полудня…»), к целостному явлению, а также к идее об имманентном рассмотрении предмета.
(<< back)
47
«…категория священного для него [Чарли'1 просто не существует, он не может себе ее представить, как не может представить себе розу человек, слепой от рождения». — Обращение Базена к категории мифа уже отмечалось. В данном случае миф трактуется Базеном как элемент содержания («Чарли — персонаж–миф»), но элемент, несущий в себе определенные социологические функции. Выявляются же эти функции исходя из социологических функций мифа вообще, понимаемого у Базена бергсониански. Советский философ В. Н. Кузнецов излагает взгляды Бергсона относительно мифа следующим образом: «…разумный человек осознает себя в качестве личности, а это, по мнению Бергсона, вызывает искушение заботиться в первую очередь о себе и пренебрегать интересами других людей. Тогда в противовес эгоизму индивида выдвигается религиозный миф, в котором социальные обязанности представлены священными. Развитие индивидуального разума создает, согласно Бергсону, и другую опасность: человек, в отличие от животных, осознает неизбежность своей смерти. Миф о загробном существовании Бергсон толкует как противовес обескураживающему страху смерти…» и т. д. («Французская буржуазная философия XX века», М., 1970, стр. 72). Миф у Бергсона выступает в двоякой роли — как нравственный регулятор и как фактор, компенсирующий недостатки реальности.
Для каждого зрителя, погруженного в поток «биографического» и «социального времени», в поток, который рождает «сожаления и беспокойство», свобода Чарли от этого потока является определенной компенсацией и утешением, как является ею и органическая свобода Чарли по отношению ко всевозможным табу я запретам, установленным обществом. Но, прямо связывая результат личного решения — свободу Чарли от категорий «священного» — со «свободой от социального и биографического времени», то есть с явлением недостижимым, сказочным, Базен, по существу, притупляет антибуржуазность Чарли. Следует заметить, что, изобразив Чарли свободным от регулирующей мифологии общества, Базен отнюдь не отрицает необходимость самой этой мифологии. Именно эту функцию мифа Базен акцентирует в статье «Вестерн, или избранный жанр американского кино» (ч. III настоящего сборника).
(<< back)
48
«…господин Юло — это только метафизическое воплощение беспорядка…» — Данная статья, как и предыдущая, посвящена трансформации онтологии в язык, то есть рассматривает проблему превращения онтологических свойств кинозрелища в драматургический, сюжетный материал. Господин Юло есть новый вариант взаимоотношений со временем, в чем герой Тати существенно отличается от Чарли. Чарли был свободен по отношению к «социальному и биографическому времени», господин Юло, напротив, персонифицирует собой определенное время, а именно — длительность, поскольку ему присущи характерные черты этой стихии. Герой Тати, по мнению Базена, является совершенным и законченным отрицанием всякого порядка, то есть реальности застывшей, бесконечно повторяющейся в своих проявлениях; с другой стороны, господин Юло, как пишет автор статьи, «не решается обрести полноту существования», он как бы вечно незавершен, вечно находится в становлении. Перечисленными здесь понятиями можно исчерпывающим образом описать и саму бергсонианскую длительность.
Герою Тати, как и Чарли, противостоит окружающая среда, но если у Чаплина она была фактором динамическим или, во всяком случае, источником сюрпризов, сбивающим автоматизм действий Чарли, то для господина Юло окружение — это царство статичности, или, как пишет Базен, здесь установилось «Время, состоящее из повторения ненужных жестов, едва ползущее и совсем замирающее… Но также — Время ритуальное, которому задает ритм литургия условных удовольствий…». Среда противостоит господину Юло так же, как объективное, количественное время противостоит длительности.
Подобная чистота (или полнота) воплощения временных стихий в реальности невозможна, недостижима, поэтому господин Юло обязательно должен быть фигурой условной, мифологической, и Базен специально подчеркивает его мифичность: «Можно представить себе, что господин Юло попросту исчезает на десять месяцев в году и возникает «наплывом» 1 июля, когда часы перестают шевелить своими стрелками».
(<< back)
49
«Раскадровка» (decoupage) — термин, означающий разбивку действия на монтажные планы («номера»), производимую режиссером в техническом сценарии. У Вазена этот технологический термин получает более широкое значение, обнимая собой не только композиционное членение фильма во времени (то есть разбивку сцен на эпизоды, а эпизодов на планы), но и организацию пространства внутри кадра (собственно мизансцена, или, как говорил Эйзенштейн, мизанкадр}. Более того, у Базена понятие «раскадровки» в ряде случаев наполняется метафизическим содержанием (чему способствует этимология французского слова decoupage, по первоначальному значению — «выделение», «вырезывание» (части из целого) и «разрезание» (на части), обозначая еам принцип субъективного отбора, классификации и иерархязации элементов реальности.
(<< back)
50
«…я предлагаю… различать… две большие противоборствующие тенденции — одна из них представлена теми режиссерами, которые верят в образность, другая — теми, кто верит в реальность. Под «образностью» я понимаю все то, что приобретает изображаемый предмет благодаря своему изображению на экране». — При внешней близости к антиномии интеллекта и интуиции, заимствованной у Бергсона, данное положение Базена имеет своим источником иное философское учение — доктрину немецкого философа–идеалиста Э. Гуссерля (1859—1938), введенную во Франции в научный обиход экзистенциалистами. В связи с широким распространением экзистенциализма в послевоенной Франции (экзистенциалистскую проблематику разрабатывали и персоналисты), исходное для этого философского направления учение не могло не оказать влияния и на Базена. И действительно, у него можно отметить оживленный Гуссерлем и гуссерлианцами интерес к онтологии, частое употребление термина «чистый» (чистая сущность, чистое кино и т. д.). Приведенное положение также непосредственно следует из понятия «феноменологической редукции», введенного Гуссерлем. Советский философ Н. В. Мотрошилова так пишет об этом понятии: «Редукция, по мнению Гуссерля, — это способ, при помощи которого действительный субъект с его обычным, стихийным мышлением «освобождается» от природных, социальных определенностей, от связи с реальной наукой. Она сводится к постепенному исключению, «вынесению за скобки», «воздержанию» от всяких высказываний, которые относились бы к конкретным природным и социальным факторам человеческого существования, которые были бы взяты из обычного мышления или реально развивающейся науки» (Сб. «Современный субъективный идеализм», М., 1953, стр. 138—139). В полном соответствии с гуссерлевской редукцией Базен и выделяет режиссеров, стремящихся представить «чистую» реальность, и противопоставляет им режиссеров, не воздержавшихся от высказываний «о природных и социальных факторах человеческого существования», то есть включивших эти высказывания в изображенную действительность.
(<< back)
51
«В их фильмах монтаж практически не играет никакой роли, если не считать чисто негативной функции неизбежного отбора в слишком обильной реальности». — Базен столь категоричен потому, что допускает определенное жонглирование понятиями. Вначале он определяет монтаж как «организацию кадров во времени». На следующей странице под монтажом он понимает уже «передачу смысла, который не содержится в самих кадрах, а возникает лишь из сопоставления». Конечно, оба определения не противоречат друг другу, но второе является только частным случаем первого. Поэтому, настаивая, что в фильмах Штрогейма, Мурнау или Флаэрти «монтаж практически не играет никакой роли», Вазен заставляет подозревать, что в этих картинах не только отсутствуют те значения, которые «возникают… из сопоставления кадров», но отсутствует также и «организация кадров во времени». В дальнейшем изложении Базен уточняет, какой тип монтажа он имеет в виду, но этим отнюдь не доказывает, что кинематограф Флаэрти «безмонтажен», а доказывает только то, что монтаж у Флаэрти отличается от монтажа у Эйзенштейна. Применив общий термин («монтаж») к одному роду явлений, описываемых этим термином («параллельный», «ускоренный», «монтаж аттракционов»), Вазен вынужден изобрести понятие, которое определяло бы те явления, на которые новый, урезанный термин не распространяется и на которые распространялся старый. В этом причина появления понятия «раскадровка», чрезвычайно многозначного, и одна из функций раскадровки — именно «организация кадров во времени», та функция, которую у всех теоретиков выполняет монтаж. Высоко оценив линию Штрогейм — Мурнау — Флаэрти, Базен отнюдь не отменил монтаж, ибо сейчас же возродил его под именем «раскадровки».