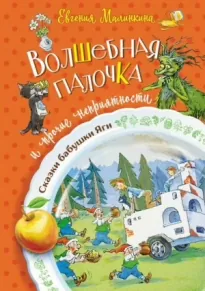Журавлиные клики
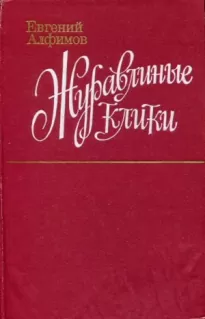
- Автор: Евгений Алфимов
- Жанр: Советская проза
- Дата выхода: 1984
Читать книгу "Журавлиные клики"
«Я тебе покажу домой, ироду тощему! — выкрикнул тонко. — Я тебя сейчас вслед за дядькой!..»
«Не имеешь права, — выпрямился Венька и высморкался в снег. — Нет моей вины ни перед кем».
«А ну ложись, змей ползучий, ложись, тебе говорю! — Филипп страшно водил слепыми от бешенства глазами, целясь из автомата и не находя Венькину голову. Венька молча плюхнулся в снег. — Теперь по-пластунски, вон до той березы… Быстрей! Еще быстрей!»
Венька прополз шагов десять, потом, задыхаясь, поднялся: «Мстишь мне? За Марью мстишь?.. Эх, ты-ы!..»
«Ложись! Ло-о-ожись! — вопил Филипп, уже ничего не соображая. — Стрелять буду!..»
И застрелил бы Веньку, если бы не Толик, который крепким ударом молодого ядреного кулака выбил оружие из рук Филиппа. Филипп оторопело посмотрел на приклад торчком вошедшего в снег автомата, обернулся к парню: «Ты что?» — «А то. Самосуда не будет». Несколько секунд они боролись взглядами, и Филипп не выдержал, опустил глаза.
«А вы идите, — сказал Толик Веньке. — И не бойтесь, никто вас не тронет…»
Откуда он взялся в отряде, сопляк этот вежливый? Филипп и знал-то его без году неделю, говорили, из тыла был прислан, в специальной школе где-то обучали… Вот и выучили. Веньку, таракана запечного, на «вы», а его, бойца наипервейшего, с грязью смешал, осрамил навеки… Где ж справедливость?
Не дождался Филипп справедливости и в отряде. Только завалился спать, как разбудили: бегом, мол, в командирскую землянку. Там его встретил Ефимыч с комиссаром. Оба аж топорщились от злости.
«Ты что ж это!.. — загремел командир, не дав Филиппу и порога переступить. — Тебе кто дозволял над людьми измываться?»
«Наклепал, паразит», — подумал Филипп про Толика и пожалел, что не нажаловался на него первым, когда докладывал утром о выполнении задания.
«Судить тебя, молодца, будем! — стукнул ладонью по столу комиссар. — За то, что позоришь звание партизана».
«Да вы дайте слово сказать!» — взрыднув от незаслуженной обиды, крикнул Филипп.
«Мо-о-лчать! — криком же заткнул ему рот Ефимыч. Таким сердитым Хомутов еще никогда не видел добродушного бородача командира. — Ты что думаешь, за твою храбрость тебе все спишется? Думаешь, не знаю о твоих штучках-дрючках?.. Кто у старухи вдовы в Пиличках курей перестрелял за здорово живешь, потехи ради?.. Не ты, скажешь? Кто у деда Евлампия мед вымогал, на самогон выменивал?.. Не ты?.. Я молчал, надеялся, сам осознаешь, в чувство придешь… А ты опять? По какому праву заставил больного человека на брюхе по снегу ползать?
«Так сволочь же, — попробовал защищаться Филипп. — Племяш предателя, яблоко от яблони…»
«Не понимаешь? — спросил комиссар. Посопел перешибленным в рукопашной носом. — Или дурачком прикидываешься? — Зыркнул на Ефимыча: — А ты тоже хорош, командир… Нашел кого посылать на такое задание… Иль мало у нас бойцов с чистыми руками?..»
«Да я, да я… — по-индюшиному закулдыкал Ефимыч, у которого от гнева на Филиппа язык перестал слушаться. — Да если бы я…»
«Ладно, — сказал комиссар. — Это нам урок на будущее. А тебя, — повернулся к Филиппу, — из отряда попрем к чертовой матери, чтоб духом твоим не пахло!»
С тем и вылетел Филипп из командирской землянки. Правда, судить его не судили, из отряда не выгнали. То ли пожалели, учитывая прошлые заслуги, то ли не до него было, так как вскорости разгорелись жаркие затяжные бои с немецкими карателями, тучей двинувшимися на партизанский лес…
За окном, слышал Филипп, бодро голосили уже утренние, поздние петухи. Пора было умываться, затоплять печь, готовить завтрак. Но так могуча и неодолима в своем течении была река воспоминаний, несшая его, что он снова лег на койку и решил не вставать, пока не додумает все до конца, не доплывет до последнего бакена. Он закрыл глаза, и ему тотчас привиделось теплое летнее предвечерье и он сам, демобилизованный сверхсрочник, в новехонькой гимнастерке со старшинскими нашивками на погонах, в ладных хромовых сапогах гармошкой. Уже год, как война кончилась, и теперь шел он со станции домой, нес, посвистывая довольно от приятной тяжести в руке, занятный, в пупырышках, заграничный чемоданчик крокодильей кожи, в котором было припасено кое-что и для Марьи.
Филипп знал, что у нее вскоре после Победы друг за дружкой перемерли родители — сначала мать, потом отец, что жила она одна, поэтому он и направился прямо к ней. Втайне надеялся — обрадуется ему, может, даже на шею кинется, поцелуются они, как водится у старых знакомых после долгой разлуки, забудут прошлые обиды да и заживут вместе в любви и мире.
О чем они тогда разговаривали с Марьей, в ту первую послевоенную встречу? А шут его знает о чем. Филипп сидел над зелененькой четвертинкой, припасенной заранее на станции, ел Марьино сало и нес, сам себе дивясь, какую-то мутную невнятную околесицу об австрияках, о том, как они любят музыку и какие нарядные у них баяны — аккордеонами прозываются. Чемодан из крокодильей кожи лежал с откинутой крышкой на скамье под рукомойником. Марья к подаркам и не притронулась. Филипп искоса поглядывал на чемодан, видел, как срывались с медного носика и шлепались на цветастое платье, уложенное сверху, крупные капли. И это его нисколько не трогало, хотя не так-то и дешево обошлось ему, Филиппу, и это платье, и другие женские шмутки.
«Ты что, — спросил он наконец, — не радая мне?»
И знал уже, что зряшный то был вопрос: Марья глядела как бы сквозь него, будто за столом перед ней был вовсе не человек, а так, пустое место.
«А знаешь, — вдруг сказала она. — Венька-то тогда помер…»
Это было новостью для Филиппа. В армии он изредка получал от Марьи письма, но ни в одном о Веньке не упоминалось… Филипп поперхнулся салом, но тут же совладел с собой: «А я тут при чем? На ладан дышал…»
«Значит, ни при чем? — неприятно усмехнулась Марья. — Вот тебя бы в снег в одних подштанниках да ползти заставить… На второй день и преставился, в жару простудном сгорел».
«Ты еще за дядьку его меня укори, — рассердился Филипп. — За то, что в ножки ему не поклонился, спасибо, мол, за мужиков, немцам выданных… — Вскочил, опрокинув недопитую четвертинку, на пороге обернулся: — Смотри, как бы не прогадать тебе, девка. Нас-то с войны вернулось — раз-два, и обчелся…»
Глупые сказал слова. Только дело было уже непоправимо. Очухавшись, поостыв, снова пошел к Марье, а она ему чемодан оставленный в руки сунула и, не дав рта раскрыть, за дверь выставила.
Вот какая обратно ерундовина получилась…
«Ага, ты гордая, — злился Филипп, — а я тебя погордей буду…» И спустя неделю посватался к соседке своей, Наталье. Баба, правду сказать, неопределенная: ни дура и ни умная, ни толстая, ни худая, ни злая, ни добрая. «И что ты из себя представляешь? Никак не пойму! — сокрушался Филипп в минуты подпития. — Вот вернулся с конской службы свинья свиньей, еле хрюкаю, с копытов долой… А ты что?.. Ну хоть бы ухватом по хребтине треснула, хоть бы облаяла… — И хватался обеими руками за лохматую голову: — Ску-у-у-шно мне!..»
Детей у них не было.
Марья тоже в долгу не осталась — согласилась за Леонтия — мужика вдвое старше ее. На глазах у деревни угрюмела баба, дичала будто. Только и знала дорогу — в артельный коровник да и назад, домой: ни в клуб кино посмотреть, ни на посиделки, ни к подруге вечером словом перекинуться.
А ведь тянулись они друг к другу, Филипп и Марья. У него душа любовной тоской заходилась, когда видел ее издали, в спину, прямую и тонкую, с крепкими ногами, которые ему и открылись по-настоящему всего один раз, там, под стогом, но зато запомнились навсегда. А она?.. Разве не жила баба «с печалью утраты на бледном лице?» — как пел красиво под аккордеон молодой лейтенант, их взводный, когда стояли они в Австрии после войны… Жила, жила с печалью о нем!..
Но и это минуло. Как вода в песок, уходили годы, и постепенно сгнивали ниточки, связывавшие их сердца. К старости и совсем ни одной не осталось. Померла Наталья, Левонтий помер, ему, Филиппу, пускай напоследок, да пожить бы с Марьей, а он хоть бы шелохнулся ей навстречу. И она не шелохнулась. Тоже вот померла…
Жизнь была додумана. Река памяти, укоротившись до нету, всплеснулась в последний раз и выбросила Филиппа на холодный мокрый песок нынешнего дня. Филипп поежился, кряхтя, сполз с койки. Постоял в нерешительности перед рукомойником, махнул рукой и вышел на улицу.
Возле Марьиного дома негусто толпился народ. В саду, под усохшей грушей, дед Пантелей — бессменный заботник об умерших — строгал рубанком доску, положив ее на два табурета.
— Кажись, сыровата, — сказал Филипп, пощелкав по доске ногтем.
— А ничего, малый, сойдет, — улыбнулся щербато дед и сморгнул с дряблого века старческую капельку. — Не хоромы строю…
«Помочь, что ли, деду?» — подумал Филипп, но желание было едва ощутимо.
— Ну, ну, работай, — покашлял со значением и, напустив на себя скорбную наружность, прошел в избу.
Покойница, уже обряженная, с уложенными на груди руками, лежала на столе, укрытая до пояса простыней. Филипп осторожно присел на стул у стены и стал смотреть на Марью. «Не сердишься на меня, нет?» — спросил безмолвно. Лицо у Марьи было строгое, но спокойное. «Не сердись. Я-то перед тобой чем виноватый? Рассуди сама… Это судьба наша — всю жизнь врозь, хоть и рядом. А против судьбы не попрешь, девка, нет… Она посильней человека будет, с ней борись, не борись — свою линию выгнет…»
Филипп обрадовался было, что он так хорошо, толково объясняется с покойницей, он уже ощущал в груди сладкую обиду на судьбу за себя и Марью, уже что-то накатывалось, пощипывая, на глаза. Но тут донеслось со двора коровье мычание и сокровенно-торжественный строй его мыслей, едва успев нужно наладиться, прервался. Его так и подмывало вскочить и посмотреть — что корова? Все еще плачет или успокоилась?..
Прежнее бесчувствие к покойной охватывало его, и чем больше ругал он себя за это, тем холодней становилось на сердце, будто и не лежала перед ним на столе умершая Марья. Однако приличия ради и для очистки собственной совести (в избе, кроме него, никого не было) он посидел еще минуту. Потом встал и на цыпочках, боясь скрипнуть половицей, приблизился к Марье, тихонько тронул ее восковую, с как бы оплывшими пальцами руку.
— Ладно, лежи давай, — сказал вслух и низко, до самых бровей нахлобучил шапку.
Опасаясь, что его заметит дед, Филипп прямо от крыльца прошмыгнул в хлев. Рыжуха смиренно дышала в углу, медленно двигала челюстями, жуя жвачку. Свету проникало в хлев маловато, он включил электричество. Рыжухины глаза были по-коровьи печальны, но сухи. Филипп подбросил ей в угол сенца, почесал бугорок меж рогами. Рыжуха прерывисто и, как показалось ему, жалобно мыкнула…
Про эту корову на деревне истории рассказывали. Марья ее, худую и хворую, еще телкой у колхоза купила. Не жалела для нее ни хлеба, ни иного продукта, от себя отрывая, а в пойло добавляла отвар шалфей-травы, чтоб изгнать из коровьего нутра болесть и слабость. И выросла Рыжуха людям на удивление, товаркам по стаду на завидки: уж такая справная да статная, с боками гладкими, блестящими, с ведерным выменем. И молоко выдавала такое жирное и вкусное, что покупала его у Марьи для своей дочки Светланы сама Людмила Борисовна — жена приезжего ученого агронома, привередница и чистюля. Светлане сейчас годков восемь, и вскормленной Рыжухиным молоком, нет ей равных промеж сверстниц: из платья, гляди, выкатится, так кругла и упруга.