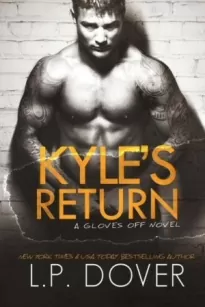Аистов-цвет

- Автор: Агата Турчинская
- Жанр: Советская проза
- Дата выхода: 1967
Читать книгу "Аистов-цвет"
VI
Большего чуда за всю свою жизнь мы еще не видели. Едем, едем в Киев на машине, которая везет нас по воде и так пыхает трубой, как когда-то наш умерший дедушка трубкой. Разве не лучше быть беженкой, разве не лучше любоваться этой водяной дорогой, чем сидеть целыми днями на завалинке, а зимой в холодной хате и забавлять детей. Но меня схватила какая-то кровавая хворь. Люди шарахаются от меня, говорят: может, это холера? Слышали, что уже ходит она среди беженцев. Страшная горячка у меня, так и тянет прижаться лицом к окнам. Я то и дело срываюсь с места, хочу бежать, броситься в воду. Мать удерживает меня, слезы ее обливают мое лицо. «Гасунцю моя, Гасунцю!» Ведь я ее первая помощь. Что она будет делать, если меня не станет.
Как приятно на сердце, когда тебя жалеют. Даже Иванко, который был самым непослушным, когда я оставалась с детьми на хозяйстве, теперь первым хочет подать мне воды и говорит: «Гасунцю!»
А как поднес мне чашку ко рту, даже слезы потекли из его глаз.
Холера…
Отец дома не раз бросался этим словом, ссорясь с матерью. Но в пути мы не слышали, чтобы он говорил это, — он словно боялся накликать беду. Но вот она пришла к его любимой дочери. Не наказание ли это, чтобы не бросал этим словом в мать?
Глядя на меня, он чернеет от тоски. Тато мой, тато! Ей-богу, я не умру. А может, это и не холера.
И я не умерла. Может быть, мою болезнь победили сказочные огни на киевских горах, что уже были видны нам с парохода. Такие невиданные, манящие. Это, наверно, глаза счастья, ожидающего нас. Не знаю, что они обещают другим, а мне — жизнь. И я не умираю, я живу, и веселеют глаза моего отца, и детишки подпрыгивают: доехали!
Вот уже мы высадились на киевской пристани. А куда дальше? Портовые грузчики помогают нам добраться до беженского пункта, который размещен в Доме контрактов.
Длинный двухэтажный дом, покрашенный желтой краской, с одной стороны отгороженный от площади штакетником. Двор напоминает цыганский табор. Нас ведут внутрь, и мы располагаемся на одной из полок среди других людей. Длинное помещение, обнесенное вокруг по стенам нарами, захламленное пожитками и людьми, после таинственных огней, увиденных с парохода, казалось каким-то страшным подземельем.
Но и здесь нас ждала своя радость. Некоторые куликовские семьи, как оказалось, тоже были здесь. Вот и встретились со своими людьми.
Люди советовали не говорить, что я больная, иначе меня сейчас же заберет черная карета и увезет в госпиталь.
— Делай такой вид, Гасунця, будто ты здорова.
Я старалась улыбаться всем, кто к нам подходил. Делать вид, что здорова! Это тоже дает силу жить. И я уже хожу за пшенной похлебкой, которую выдают беженцам здесь же, при Доме контрактов. А отец с матерью бродят по городу в поисках работы и думают о том, как нам жить здесь дальше. Я опять первая помощь матери, я — старшая.
Но разные болезни в беженском пункте все раскрывали и раскрывали свою пасть на людей. Каждый день черная карета выхватывала нескольких и увозила куда-то. Затаив дыхание, мы провожали ее испуганными глазами и вздыхали облегченно: и на этот раз миновала нашу семью.
Но вот она схватила нашего Иванка. Мать кричала, ломала руки. В этом страшном доме эта черная карета так — по одному — может забрать всех ее детей. Но на ее крик, на ее слезы отец нашел доброе слово:
— Разыскал работу на кирпичном заводе. Там, на Юрковской улице, снял и жилье.
Дорогой наш тато! Он стал теперь добрее всех отцов. Не лакомился больше водкой. Не наша ли беда загородила ему к ней дорогу?
С матерью не бранился, нас жалел. Все хотел нам что-нибудь хорошее сделать. Как взяла Иванка черная карета, сразу же сказал:
— Завтра перебираемся отсюда.
И мы перебрались.
На беженском пункте у нас был на нарах уголок. А на Юрковской снимали целую комнату, и наша семья была в ней одна. Это ничего, что комнату наспех сделали из какого-то хлева. У наших хозяев был хороший дом и карета, на которой они и зарабатывали свой хлеб. Но они хотели еще заработать и на таких, как мы. На каждой беде, приходящей к людям, кто-нибудь находит себе корысть. Но мы радовались, что был у нас свой угол. Тато будет работать — заплатим как-нибудь за жилье. А то, что спать придется на земле и нечего постелить, — это мелочь, пустяк.
Разве не бывало нам хуже? Уже узнали, что значит потерять родную хату, которую сможем себе вернуть, только когда кончатся все войны. Ох, скорее бы это время наступило!
Как дорога теперь для каждого из нас наша хата!
Хоть и опрокидывалась от старости назад, хоть сырая, с мокрыми стенами, но она, с ее клопами и стоножками, была теперь для нас милее и красивее всех каменных домов. Родная хата, слышишь ли ты наш голос? Или война уже испепелила тебя, а ветры развеяли твои дорогие останки? Увидим ли мы тебя когда-нибудь?
Но живем уже под глиняной горой в маленькой комнатке на Юрковской улице, — значит, надо любить и ее. Отец еще затемно тихонько встает, чтобы нас не будить, и идет на работу. Я уже хорошо знаю те глинища, где он носит кирпичи, потому что каждый день ношу ему пшенную похлебку, за которой мать ходит на беженский пункт. Одну меня мать еще туда не пускает, — далеко. Мало ли что может статься с малой девочкой. Для отца еще покупаем французскую булочку: он работает, и у него болит живот. Младшие дети разрывают ее глазами, когда мать кладет ее в торбочку. Туда же она ставит и горшочек с похлебкой. Все это я должна отнести отцу.
— Знаю, мои сладенькие детки, хотелось бы вам это съесть. Но это только для тата. У него болезнь и тяжелая работа. Кто, кто заработает для нас, если его не станет?
И смотрит на нас, как святая, эта французская булочка, а мы на нее. Но разве посмел бы кто-нибудь отломать от нее хотя бы крошку, даже если бы оказался с нею один на один.
Булочка эта для тата. У него тяжелая работа.
Уж я-то вижу какая, когда приношу ему пшенный суп и булочку, как приносил Федорко для своего отца из повести «Смок». Сядет он где-нибудь на холмике хлебать суп, а земля сыплется с его рук, и у меня сжимается сердце. Так почернел, такой худой стал наш тато. Куда делись острые огоньки из его глаз? Где то шутливое слово, которое он любил говорить людям? Черные небольшие его усы, казалось, падали теперь вниз, как оковы, и придавили его прежнюю задорную усмешку. Когда брал булочку из моих рук, всегда хотел отломить от нее кусочек для меня. Но я не брала, хоть, кажется, могла бы ее в ту же минуту всю проглотить. Каином надо было стать, чтобы взять у него этот кусочек.
На дорогах было лучше. Люди там были добрее. Выносили нам всякую еду, а в Киеве даром никто не давал. И хозяйка, у которой мы жили, уже напоминала, чтобы мы платили за жилье, хоть в нем должен был стоять ее конь. Да разве мы не заплатим? Пусть только тато заработает. Только бы она подождала, только бы не намекала каждый день матери, чтобы несла деньги. А сердце наше и мамы тоскует еще об Иванке, который лежит где-то в госпитале, на другом конце Киева.
Надо ведь и к нему сходить и что-то снести. А где взять, где? Отцу еще не заплатили. Если бы ты слышала, родная хата, как мы горюем по тебе. Хоть мы с тобой видели голод и холод, но за тебя не надо было платить. Своя, своя родная хата!
А здесь, на Юрковской…
Но худшее нас уже поджидало. Скоро занемогла мать. Горячка так сушила ее губы, что мать рвалась к окну лизать стекла. Рано утром отец, перед тем как идти на глинище, вытаскивал из-под нее мокрую солому, давал маме пить, прикладывал дитя к ее груди и учил меня, как это делать. Об Иванке, который был в госпитале, уже некогда было вспоминать. Ему там, наверно, было лучше.
И со всем этим я должна была справляться. И справлялась. Но горше всего для меня было идти на беженский пункт за похлебкой и проходить через одну улицу, мимо военной казармы. Этого места никак нельзя было миновать. Там каждый раз подстерегал меня один солдат, шел за мною и по-всякому заманивал пойти с ним пройтись. Как ненавистны, как противны были эти сизоватые маленькие глазки, которые пожирали меня своим взглядом, гнетом падали на душу. И когда позднее в жизни я встречала людей с подобными глазами, всегда ждала от них чего-нибудь плохого.
Ох эта нагорная Юрковская улица в Киеве!
Один раз принесла из Дома контрактов похлебку, застала мать под горой — окровавленную, обеспамятевшую. Она выбила окно, выползла через него на двор, а теперь лизала, ела землю и каталась по ней.
Младшие дети онемели со страху, а увидев меня, стали громко плакать. На этот детский плач прибежала хозяйка, увидела нашу маму и сразу же хотела вызвать черную карету. Но мы так вцепились в ее одежду, так ловили и целовали руки, моля не делать этого, что и она, безразличная к нашей беде, удержалась. Мать мы все вместе кое-как втащили в комнату. В этот день я уже не понесла отцу похлебку. Сделать это взялись Петро и Оленця, но они еще были слишком малы, чтобы их куда-нибудь пускать одних. Но все-таки ушли, разыскали отца. А когда он пришел — бился в отчаянии головой об стену. Мать уже лежала тихая, и мы сидели притихшие, у другой стены, испуганно смотрели на это отцово отчаяние. И как мог выжить в этой беде наш самый маленький братик? А ведь жил и даже пробовал улыбаться…
Но в те тяжелые дни пришла к нам и радость. С какого-то дня мать уже не смотрела безразлично на нас и, когда мы хотели приложить ребенка к ее груди, сама взяла его из наших рук и покормила. Болезнь дотемна подсинила ее искусанные губы, сама она словно вымокла. Но уже могла сесть.
И тогда пришло более страшное. Заболел отец. Он пришел с работы с пылающими глазами, кричал, бился о стену головой, собирая своим криком людей. Хозяйка не могла больше терпеть в своем дворе такую беду и вызвала черную карету. Мы смотрели на нее, как на лихое Смочище, которое забирает навсегда нашего отца. Потому что большинство из тех, кого карета забирала, не возвращались. Могла ли наша мать и дальше лежать, хоть болезнь еще от нее не отошла? Горе подняло ее на ноги. На Юрковской улице нам не давали больше пристанища, и мы опять вернулись на беженский пункт в Дом контрактов.
В эти дни я с младшими детьми вышла на улицу просить. Теперь не было уже около нас отца, чтобы можно было рассчитывать на его заработок.
Мать была такая слабая, что проведать отца и брата пошла я. В Александровской больнице в бараках, которые были размещены там же в саду, лежало очень много больных беженцев, и всегда кто-нибудь шел туда в дни, когда пускали. И я присоединилась к этим людям. Киевские улицы того времени, по которым я шла проведать отца и брата, живут в моей памяти, как одна дорога. А в конце ее — длинная койка в бараке, на которой лежал наш больной тифом тато. Он был высокий, а болезнь вытянула его еще больше. Лежал навзничь, с закрытыми глазами, высокая температура уже не заставляла его кричать и рвать на себе волосы, а приковала, как глыбу, к постели. Отец чуть-чуть шевелил губами. Ничего, ничего ему не хочется есть из того, что я принесла. Пусть Гасунця все это заберет, чтоб не пропадало, пусть будет детям. Только бы чего-нибудь кислого, кислого…
Как ему хочется винограда! Но доктора запрещают приносить это таким больным, как он. Но, может быть, Гасунця все-таки принесет…