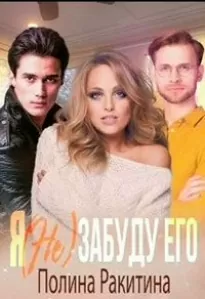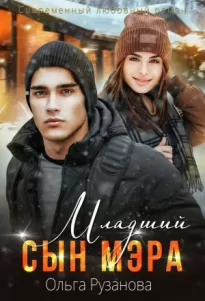Сто миллионов лет и один день

- Автор: Жан-Батист Андреа
- Жанр: Современная проза
- Дата выхода: 2021
Читать книгу "Сто миллионов лет и один день"
ЛЕТО
Я наверняка забуду многое — может быть, даже свое имя. Но никогда не забуду первую фоссилию. Небольшое морское членистоногое — трилобит, который тихо лежал себе и никому не мешал, пока в один весенний день наши дороги не пересеклись. В следующую секунду мы были друзьями навек.
Он и его товарищи поведали мне — когда я подрос и стал понимать их язык, — что им не раз приходилось съеживаться и уменьшаться. Так они выжили в борьбе с потоками лавы и кислоты, с нехваткой кислорода, с низко нависшим небом. А потом настал день, когда им пришлось сложить оружие, признать, что они отжили свое, и свернуться калачиком в теплом каменном чреве. Они приняли свое поражение и уступили место другим.
Другим оказался я, homo sapiens в брюках на вырост, стоящий в высокой траве тогда еще совсем юного века. В то утро 1908 года меня выгнали из класса, потому что я спорил с учительницей. Карл Великий — никакой не король франков, как утверждала она. Это моя собака, черный овчар, которого мы нашли в хлеву. Карл Великий, он же Корка. Он охраняет нас от злых духов и бродячих котов — они ведь часто действуют заодно.
Мадемуазель Тьер показала нам иллюстрацию — бородатый дяденька в короне и сверху буквы — К-А-Р-Л В-Е-Л-И-К-И-Й. Я уже умел читать и понимал, что буквы эти складываются в явное доказательство моей ошибки. Она сказала: «Ты прервал урок. Ничего не хочешь сказать классу?» И я ответил: «В следующий раз прав буду я!» Она взяла мой дневник и написала пером: «Дерзил на уроке». И дважды подчеркнула. Будь любезен принести это с подписью родителей.
Я шел домой по пыльной дороге, пережевывая свою грошовую браваду и обреченно хмурясь. Из всей местной детворы я единственный любил школу и был в ней лучшим учеником. И что я, виноват, что короля назвали собачьей кличкой?
По задернутым занавескам спальни я понял, что мать беспокоить нельзя. В такие минуты ей нужна была темнота, и только темнота. Командора на положенном месте на горизонте — там, где наши поля идут под уклон к деревне, — не было. Зато Корка, бдительно лежа на продуваемом пригорке у дома, как раз присутствовал. Он поднял свои славные уши и секунду смотрел на меня свысока — действительно немного по-королевски, — а потом снова заснул.
Я схватил молоток, идеальный инструмент для решения кучи проблем. Сподручней всего было применять его подальше от дома, и я пошел напрямик сквозь пышные гряды салата, пока на соседском поле не уперся в здоровый камень. Я мысленно наложил на него лицо мадемуазель Тьер — раз, два, три — и нанес по нему карающий удар. Камень раскололся сразу, словно только притворялся целым. Из его глубин, удивляясь не менее моего, выглянул мой трилобит — и прямо мне в душу.
Ему было триста миллионов лет, мне — шесть.
«Куда направляемся?»
Я ответил: «До конечной», ибо место, куда я еду, не имеет названия. Просто деревенька, затерянная в мареве летнего дня. Тип, сидевший под солнечным зонтом, протянул мне билет и снова заснул.
Передо мной мотается затылок, с каждым виражом рискуя отломиться от шеи. Старушка. Мы — единственные пассажиры: я, она и это адское пекло, которое ползет из всех щелей, из разболтанных стыков и окон автобуса. Мой лоб, прижатый к стеклу, тщетно пытается вспомнить прохладу.
К отправлению катера из Ниццы Умберто не пришел. Буду ждать его наверху сколько надо. Он приедет на каком-нибудь здешнем автобусе с забавными белобокими колесами. Тоже будет часами ползти в гору и твердить себе, что ну не может же дорога длиться бесконечно, — и ошибется. Я с ним уже месяц не говорил, но он приедет, я твердо знаю, он приедет, потому что это Умберто. А я буду изнывать от нетерпения и всячески бушевать, пока он не приедет, потому что это я.
Затылок хрустит, как ветка, старушка спит, свесив нос в авоську. Еще несколько минут назад рядом, через проход от меня, вытянув ноги на красном кожаном сиденье, сидела девочка и ее мама. Я предложил девочке сокку — первые виражи начисто отбили у меня охоту есть. Она покосилась и показала мне язык, презрительно отвергая бобовую лепешку. Мать отчитала ее, я махнул рукой: ничего, мол, пустяки, но про себя подумал: вот поганка! Мать с дочерью вышли часа два назад — в прошлой жизни. А дорога так никуда и не делась. И если зачастую все начинается с дороги, интересно, кто сделал мою такой извилистой?
Это край, где ссоры длятся тысячу лет. Долина вклинивается в него и исчезает бесследно, как улыбка старика. В самой глубине, недалеко от Италии, — деревенька, пришпиленная к горе огромным кипарисом. Дома окружают его кольцом, наползают друг на друга и тянутся раскаленными крышами под его защиту. Улочки так узки, что, пробегая по ним, можно оцарапать бока. Здесь мало места и любую пустоту жадно забивает камень. Человеку он оставляет лишь крохи.
Деревня похожа на ту фотографию, которую я видел, — нечеткую, расплывшуюся по плохой бумаге. Зеленая булавка кипариса и под ней — вялое охристое шевеление издыхающей мухи. Два десятка сигарильос и бледно-меловые лица, маячащие за ними, с любопытством уставились на меня. Среди них полноправным членом сообщества тянет свою любопытную голову осел. Вперед выходит мэр, протягивая руку и улыбаясь пеньками зубов.
Маленькая толпа ведет меня с собой, тяня и толкая, и даже ощупывая, чтобы убедиться, что я и вправду профессóре, тот самый, из Парижа, таких мы тут еще не видали, так что scusi, мы не знали, что это за диво такое и с чем его едят. Мне подали кофе, какой умеют варить только итальянцы — горький расплавленный гудрон, от которого вспоминается детство и разбитые коленки. Сначала ничего не чувствуешь, потом — хлесткая боль, от которой на глазах выступают слезы, и головокружительное счастье, когда боль стихает.
Я по привычке зову их «итальянцы», хотя с 1860 года эти люди — французы, мэр трижды повторил мне это с моего приезда, — «истинные французы, профессоре», тыча патриотическим пальцем в трехцветную перевязь шарфа. И отнюдь не утратили связи с родной почвой. Посмотришь на них — и сразу понимаешь: их родина — камень. От него такая кожа, руки, пыль на волосах. Камень дает им жизнь, и камень убивает. Прежде, чем стать каменщиком, плотником, обманутым мужем, прежде, чем стать разбойником, богачом или бедняком, — здесь становятся альпинистами. Чему тут удивляться? С первых шагов дитя этих долин наталкивается на стены. Надо уметь карабкаться вверх, другой дороги нету.
Франция, Италия — какая разница. Это всего лишь слова из лексикона мальчишек, которые гоняют мячики по большой карте и собачатся друг с другом. Мы нигде, мы в чреве мира, и это место не принадлежит никому — кроме науки, которая привела меня сюда. В конце дня я поселился в номере, заказанном на мое имя в единственной деревенской локанде. В комнате веет седой стариной. Отсутствие комфорта — абсолютное. Ставни, покрытые сиреневыми корками отставшей краски, распахиваются, открывая вздыбленный горизонт. Он вертикален.
Под моим окном в тени стены крутится щенок, пытаясь догнать свой хвост. Он еще не знает, что поймать хвост не удастся, до него это пытались делать другие — и сдались. Я знаю этого щенка, губы сами складываются, чтобы его окликнуть, — но нет, конечно, на дворе 16 июля 1954 года и Корка уже сорок лет как мертв.
Неделю назад я закрыл дверь своей квартиры, я говорю «своей» по привычке, квартира уже не моя. Я поднялся к госпоже Мицлер на седьмой этаж и объявил ей, что да, решено, уезжаю. Куда же вы? Не имеет значения, мадам Мицлер, главное, я не смогу больше по пятницам поднимать вам покупки, не буду отдавать вам вещи в починку, ловить вашего кота, когда вы забудете закрыть окно, предупреждать, что у вас на кухне переливается раковина и заливает мне потолок. А вы вернетесь? А как же, мадам Мицлер, непременно вернусь, только не сюда, а в район побогаче, даже, может, в квартиру с лепным потолком. В ее туманных глазах я прочел смесь грусти и восхищения. Мадам Мицлер умела распознать человека, который берет судьбу за рога.
Шел дождь, он скреб серый цинк крыш, скользил за воротник. По дороге на Лионский вокзал я прошел мимо университета, куда впервые ступил четверть века назад молодым профессором палеонтологии, с полным набором иллюзий и убеждений в том, что я ступаю на Олимп, где мелкие дрязги исключены. В дальнейшем я узнал, что боги Олимпа куда мелочней, безжалостней и порочней, чем любой из смертных. Боги лгут, присваивают чужое, обманывают, жрут друг друга поедом. Но хитры — вот чего не отнимешь.
Единственное, за что я благодарен университету, — это Умберто. Он явился однажды ко мне в кабинет, прямо вырос из-под земли. Напугал меня так, как я в жизни не пугался. Как этот ярмарочный великан сумел войти так, что я не заметил? Шаткие движения и стеснительная улыбка делали его похожим на ребенка, который взгромоздился на ходули, прикрыл их бумазеей и с помощью пружинок задает им разные смешные движения или позы. Довершали образ толстые близорукие очки. Он был сосредоточен, как может быть сосредоточен крупный человек, который сознает, что занимает на этой планете больше места, чем простые смертные, и принимает вытекающую отсюда ответственность: тщательно дозировать жесты.
«Я ваш новый ассистент, профессор».
Умберто было двадцать, мне на пять лет больше. Никто не предупредил меня о его приходе, у меня никогда не было ассистента, и, главное, я о нем не просил. Никто в университете не знал, что он тут делает. В конце концов его имя отыскалось в какой-то зарплатной ведомости, и этого оказалось достаточно для легализации его присутствия. Раз платят, значит, на что-то он нужен, ведь так? Потом вроде сказали, что он тут по программе обмена между Парижским университетом и университетом Турина. А вот что мы забыли в Турине, определить не удалось, несмотря на тщательное расследование.
Умберто быстро стал незаменимым. Я ценил его спокойное присутствие, его преданность и то, что он называл меня «профессор» — с подчеркнутым уважением, ибо я был профессором очень молодым. В этом он разительно не походил на моих коллег, которые по той же причине, обращаясь ко мне, язвительно брали «профессора» в кавычки. Он не отличался научной строгостью и даже не превосходил умом тех, кого я знал. Но руки у него были золотые. Когда аммонит распадался в руках, когда какой-нибудь камень упрямо не отдавал взятого заложника, звали Умберто. Он бережно разжимал тиски времени, державшие нужный нам предмет: лист, моллюска, фрагмент кости; он был бесконечно медлителен, — наверное, последствия детства, проведенного в горах. Не раз я на рассвете заставал его за столом в той же позе, в какой оставил накануне вечером. В одной руке ножницы, в другой — пинцет с налипшими на него пылинками атомов. Он не был женат и мало заботился о том, куда приклонить свою громадную голову, чтобы дать сну похитить у жизни несколько часов.
По прошествии двух лет я разрешил ему звать себя по имени. Я тысячу раз пытался заставить его произносить «Стан», объясняя, что на букве «н» надо тормозить, утыкаться в нее как в стенку, — но он всегда говорил «Станé» и тут же нелепо и бессильно разводил руками, обнаруживая ошибку.