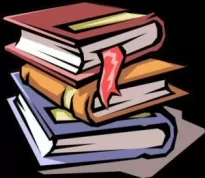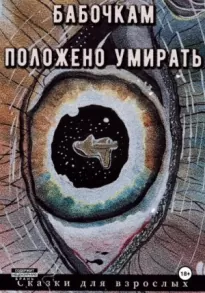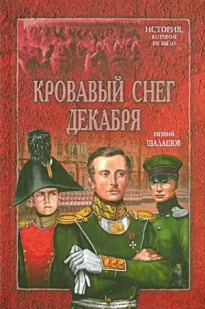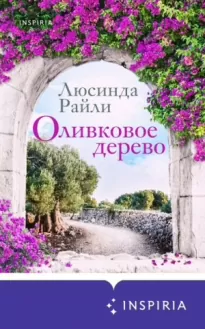Царство селевкидов. Величайшее наследие Александра Македонского
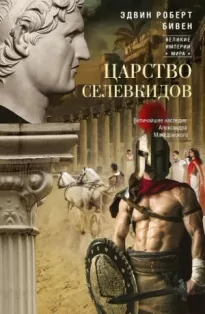
- Автор: Эдвин Роберт Бивен
- Жанр: Исторические приключения / История: прочее
Читать книгу "Царство селевкидов. Величайшее наследие Александра Македонского"
Раздел после Ипса утвердил Лисимаха во владении западом Малой Азии. Некоторые греческие города действительно некоторое время оставались в руках Деметрия, прежде всего Эфес, самый важный из всех. Надпись[257] говорит о прибытии в этот город посланника, посланного Деметрием и Селевком совместно, чтобы объявить об их примирении (около 299 до н. э.). Эфес, естественно, в этом официальном документе фигурирует как независимое государство, принимающее послов иностранных держав. Ни одним словом не упомянуто, что гарнизон, состоявший в основном из пиратов, все это время определял политику города, как это, видимо, было на самом деле. Однако к 294 г. все или большинство этих городов оказались в руках Лисимаха[258]: в Эфесе его полководец Лик перекупил пиратского предводителя Андрона[259]. В 287–286 гг. Деметрий был принят в Милете Эвридикой, отвергнутой супругой Птолемея. Неясно, чьи силы – Деметрия или Птолемея – владели в этот момент Милетом. Возможно, другие города после Ипса перешли в руки Птолемея[260].
Появление Деметрия в Малой Азии в 287–286 гг. до н. э. привело к тому, что он вернул в свои руки некоторые города, «некоторые присоединились к нему добровольно, другие уступили силе»[261]. Какие это были города – нам не говорят, но на следующий год Кавн все еще находился в руках его войск[262], и поэтому он либо никогда не был потерян, либо Деметрий его вернул. Это, конечно, было лишь временным непорядком во владениях Лисимаха: вскоре города были вынуждены вернуться к своему прежнему «союзу»[263].
Есть доказательства того, что рука Лисимаха тяжелее легла на греков, чем рука Антигона. Возможно, не случайно, что теперь надпись[264] в первый раз показывает нам, что над городами Ионии появился управитель, назначенный македонским царем. В письме в Приену Лисимах говорит о том, что он «послал в город приказ, чтобы тот повиновался его стратегу»[265]. В Лемносе, как говорят нам, афинские колонисты обнаружили, что Лисимах решил сыграть роль хозяина особенно неприятным образом[266]. У нас есть примеры его автократических замашек. Город Астак был стерт с лица земли[267]. Эфес он решил заменить новым городом Арсиноей[268], который назвал в честь своей последней жены, дочери Птолемея, и построить его на более удобном месте, поближе к морю. Когда граждане стали возражать против того, что по капризу царя их гонят из старых домов, Лисимах в дождливый день перекрыл сливы, и город затопило. Это вынудило горожан переселяться. Чтобы увеличить новый город, Лебедос[269] и Колофон были лишены своего населения и превращены в деревни. Колофонцы с трогательной отвагой дали битву войскам царя, и их чувства были увековечены в жалобе местного поэта по имени Феникс. Новый город Лисимаха процветал, однако он все еще оставался Эфесом и никогда по-настоящему не стал Арсиноей[270]. С другой стороны, жителям Скепсиса, которых Антигон скопом переселил в новый город в Троаде, Лисимах позволил вернуться на прежнее место[271].
В Гераклее он повел себя особенно причудливо. Аместрида, после того как прожила с ним некоторое время, увидев, что он хочет вступить в новый брак с Арсиноей, решила оставить его в Сардах и вернуться назад в Гераклею, дабы управлять городом. Когда ее сыновья, Клеарх и Оксатр, достигли достаточного возраста, чтобы принять бразды правления, ее полная приключений жизнь пришла к трагическому концу: ее отправили в море в лодке, которая была специально приготовлена так, чтобы она утонула. Юноши были не только порочны, но и глупы: они вызвали недовольство граждан своим тираническим поведением и, таким образом, потеряли все преимущества перед македонскими правителями, которые заработал Дионисий. Теперь Лисимах вмешался среди всеобщего одобрения народа, приговорил к смерти двух жалких преступников и восстановил долгожданную демократию. Горожане смогли поздравить себя с тем, что наконец-то завоевали свободу. Однако рано они радовались. Вскоре Лисимах-«освободитель» последовал примеру древних персидских времен, передав город в качестве брачного дара царице Арсиное. Так что теперь гераклеоты увидели, что бывших тиранов заметил управляющий царицы, Гераклид – вряд ли это было изменение к лучшему[272].
Деятельность Лисимаха как строителя городов оставила продолжительный след в стране азиатских греков. Про Эфес мы уже рассказали. Хотя для городов, которые основывались с чистого листа, Лисимах не находил времени, вместо этого он доводил до конца то, что начали другие. Так произошло с тремя новыми городами Антигона – двумя Антигониями и Смирной. Ко всем ним Лисимах приложил руку. Имя двух первых, которые должны были увековечивать славу Антигона, поменяли. Лисимах, создавший уже Лисимахию на Херсонесе, к счастью, не считал, что нужно с унылым однообразием называть все свои города одинаково. Антигонию на Асканийском озере он назвал в честь своей бывшей жены, Никеи, дочери Антипатра[273]: именно Никея или Ника дала свое название Никейскому Символу веры. Другую Антигонию переименовали в Александрию в честь старого хозяина и ее называли Александрией Троадой или просто Троадой, чтобы отличать от всех других Александрий[274].
Древнее имя Смирны менять не стали[275]. В случае Илиона Лисимах также постарался осуществить некоторые благие намерения Александра. Теперь город получил храм, более достойный его славы, хотя и не совсем такой, как планировал Александр, и стену длиной в сорок стадиев (около 4 2/З мили). Население города возросло с помощью синойкизма окружающих деревень[276]. В III в. до н. э. новый Илион стал достаточно важным местом – конечно, не как политическая сила, а как центр религиозного союза[277].
Убийство Агафокла настроило греческие города против Лисимаха: они начали открыто обращаться за помощью к Селевку[278]. Таким образом, дом Селевка получил огромную выгоду, ибо впервые он появился перед греческими городами[279] в облике освободителя. Селевкиды начали свою деятельность при благоприятных обстоятельствах. Как великая держава Востока, Селевкиды уже показали свою симпатию к интересам эллинского мира, в особенности к культу Аполлона, от которого Селевк якобы происходил[280]. Храм Аполлона в Бранхидах был одним из великих храмов панэллинского значения, таких как Дельфы или Делос. Работа по его реставрации после персидской тирании теперь успешно продвигалась[281]. Добрый эллин, будь он царем или частным человеком, мог чувствовать, что этот храм имеет право на его вклад и приношения. Селевк задолго до того, как он обрел какую-либо политическую связь с Милетом, показал себя усердным благодетелем как города, так и связанного с ним храма. Став хозяином Ирана, он послал в Бранхиды из Экбатаны бронзовое изображение Аполлона работы Канаха, которое увезли некогда персы[282]. Надпись из Милета[283] представляет Антиоха (еще при жизни его отца): он обещает построить стою в городе; от сдачи ее в аренду должен поступать постоянный доход для покрытия храмовых расходов[284]. Милет, как мы уже видели, находился все еще вне сферы влияния Лисимаха в 287–286 гг. до н. э. и мог так никогда не подпасть под его власть.
Аполлон Дельфийский почитался и в доме Селевка. Стратоника, судя по всему, особенно показала себя щедрой последовательницей этого божества. Храмовые записи показывают, что подарки поступали как от нее, так и от Селевка[285].
Самому Селевку оставалось всего семь месяцев – от битвы при Корупедии до его кончины – за которые он мог разобраться со всеми вопросами, встававшими в отношениях греческих городов на азиатском побережье и силы, правившей внутренней частью страны. За семь месяцев ему удалось сделать немного: он лишь успел разобраться в ситуации, и даже об этом немногом почти все свидетельства исчезли. Кажется, что он, во всяком случае, быстро обратился к вопросу о греческих городах и послал «управителей» (διοικηταί) в различные области, чтобы они доложили ему о положении дел. Так, по крайней мере, как говорит нам гераклейский историк, он поступил с северными городами[286]. Только его сообщение проливает лучик света на тьму этих семи месяцев. Представителем царя, назначенным, чтобы посетить города Геллеспонтской Фригии и северного берега, стал некий Афродисий. Он, как и следовало, прибыл в Гераклею. В этом городе – и, как мы можем предполагать, в большинстве других – падение Лисимаха уже вызвало чувства, благоприятствовавшие делу Селевка. Как только новости о битве при Корупедионе достигли Гераклеи, народ восстал, чтобы стряхнуть ненавистное иго царицы. Депутация явилась к ее управителю Гераклиду, сообщив ему, что люди решились вернуть себе свободу, и предложила ему обойтись с ним любезно, если он спокойно уедет. Гераклит неправильно оценил свое положение, разъярился и начал приказывать вывести людей, чтобы казнить их. В городе все еще был гарнизон, который мог подавить волнения. Однако этому гарнизону, к несчастью, не заплатили, и они увидели, что для них будет полезнее договориться с горожанами: таким образом, они приобрели бы свободу для города и средства для себя самих. Гераклид сам оказался под стражей. Стены крепости, которая так долго принуждала город к повиновению, были сровнены с землей. Был выбран народный предводитель, и к Селевку послали посольство. Это посольство уже уехало, когда в городе появился Афродисий. Все, казалось бы, обещало прекрасные отношения между Гераклеей и царем, особенно потому, что они уже вели ту битву, которую центральное правительство вело против вифинца Зипойта. По какой-то непонятной нам причине Афродисий рассорился с жителями Гераклеи. Он вернулся к Селевку с докладом, неблагоприятным в отношении одной лишь Гераклеи – из всех городов, которые он посетил. Послы гераклеотов все еще были у царя, и в результате доклада Афродисия произошел злополучный разрыв между городом и династией Селевка. Царь начал с высокомерных слов. Смелый гражданин в ответ на это бросил резкий ответ: «Селевк, Геракл сильнее»[287]. Его дорийский диалект был таким грубым, что Селевк его даже не понял: он недовольно вытаращился на него, а потом отвернулся.
Когда новости о том, что царь отвернулся от Гераклеи, дошли до города, они вызвали переворот в политике. Теперь сформировалась лига, враждебная правящему дому. В нее вошли Гераклея, родственные ей города Византий и Халкедон и – что имело более зловещие последствия – персидский князь Митридат. Враждебность между греками и варварами была одним из обстоятельств, которые были очень выгодны для греческой династии, которая хотела владеть этими прибрежными областями, где два элемента входили в контакт. Неловкость в отношениях с греческими городами могла, как мы видим, превратить эту враждебность в союз. Города этой лиги представляют, однако, в данном случае исключение. Что касается других городов севера, то Афродисий, как мы уже видели, не мог сказать о них ничего дурного, и греки Малой Азии, судя по всему, в этот момент смотрели на дом Селевка с чувством благодарности и надежды.
Итак, глядя на историю греческих городов Азии в целом – с падения Персидской империи до того момента, как Антиох был призван, дабы получить свое наследство, мы должны признать, что результат того, что власть перешла из рук иранцев в руки эллинов, вряд ли был таким, как предсказал Исократ. Те, кто еще помнил мечты и уверения предшествующего периода, те, чья юность прошла под знаком «Панегирика» и «Письма к Филиппу», должны были чувствовать определенное разочарование теперь, когда уже почти полстолетия прошло с зари Граника. Неужели в конце концов эллинская цивилизация должна была завершиться монархией?! Автономия городов, казалось, была так же мало застрахована от таких князей, как Лисимах, как и от Артаксеркса или Дария. «Повиноваться наместнику царя» – жестокие слова, которые города все еще вынуждены были слышать. То, что городам пришлось иметь дело с царями, чья грубая сила превосходила их собственную, то, что дела этого мира управлялись не законодателями или теоретиками, а превосходящей силой, то, что городам пришлось признать, что их права только терпят, то, что хотя власть царей над городами и не признавалась в политической теории, но при этом действия царей не сдерживалась никакими формами конституции, а единственно их собственными решениями, – все это были факты, которые должен был осознавать любой, кто попытался бы копнуть вглубь.