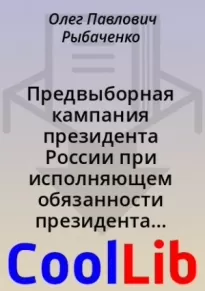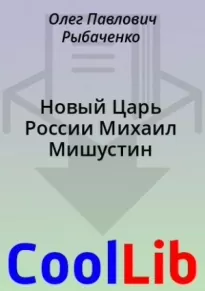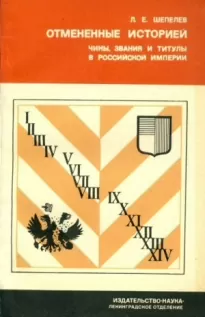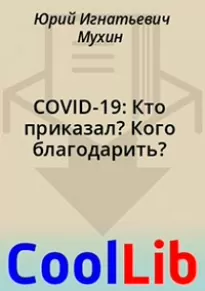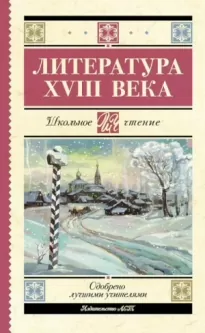По Северо-Западу России. Том 2. По Западу России.
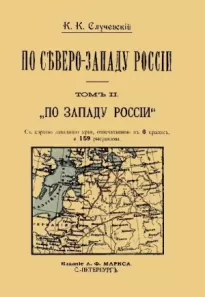
- Автор: Константин Случевский
- Жанр: Культурология / Геологические науки и горное дело
- Дата выхода: 1897
Читать книгу "По Северо-Западу России. Том 2. По Западу России."
Усыпальница царской семьи Годуновых
Легко сказать, конечно: «ты все стяжал»; но если принять в расчет, что эти веские слова обращены были маститым представителем церкви, управлявшим митрополией, к тридцатипятилетнему иноку, не имевшему, так сказать, никакого официального значения, то становится понятным, как возрастало легендарное значение Сергия еще в то время, когда он не совершил, кроме основания общежития, ровно ничего из тех деяний, которые дают ему великое право на историческое значение. Необыкновенно было и самое посвящение его в игумены: поставленный немедленно по изъявлении согласия в иподиакона, он, при совершении литургии, произведен в иеродиаконы и на другой уже день облечен благодатью священства. Церковка, построенная руками Сергия, получила право освящаться служением литургии, а бесформенное бытие братии обращалось в правильное, монастырское, и какое монастырское: воплотился монастырь Троице-Сергиев!
Ничего общего с тем, что имеется теперь налицо в богатой, венчанной золотыми маковками лавре, не было тогда. По свидетельству известного Иосифа Волоколамского, жившего сто лет позже, нищета в Сергиевом монастыре была так велика, что книги писались не на пергаменте или хартии, а на берестах; не всегда хватало инокам пшеницы для просфор, которые, начиная от молотьбы пшеницы, Сергий любил изготовлять сам; оказывался недостаток фимиама для каждения, недоставало воска для свеч, которые опять-таки скатывал сам игумен, и вместо свеч и лампад зачастую горели при богослужении лучины. Реликвиями этого далекого времени являются хранимые в лаврской ризнице деревянные сосуды, употреблявшиеся Сергием при священнодействии, и его простое крашенинное облачение. В этой именно бедной ризе с убогим посохом Сергия и древнейшим крестом его в руках, имея на груди старую бедную панагию, а на голове более чем убогую митру, которую носил еще преподобный Дионисий, митрополит Платон, окруженный всем золотом, всем великолепием своего клира, встречал однажды Державных Посетителей Лавры; этому именно митрополиту Платону обязана Лавра наибольшим своим великолепием.
Прошло еще десять, двенадцать лет, — дремучие леса, окружавшие юную обитель, все еще существовали, и только мало-помалу, благодаря бежавшей в народе славе Сергия, пустыня стала давать прогалины и, наконец, подле самого монастыря проложена большая торная дорога в северные города. Тогда к обители стали прибегать не только простые люди, но бояре и князья; слухи о воскрешении преподобным мертвого ребенка, об исцелении бесноватого вельможи, о вызове им из земли ключа живой воды, не достававшей обители, служили к тому, что дороги к монастырю становились людными, шло заселение местности, и, наконец, еще при жизни самого Сергия поселенцы «исказиша пустыню и не пощадеша, и составити села и дворы многи. Если принять в расчет, что во время земного бытия Сергия учениками его основано до 25 монастырей, а вообще от Сергиевой обители и её подвижников возникло впоследствии до 70 монастырей, повсюду сеявших веру, труд, грамотность и развитие, то одно уже культурное значение насаждений Сергия чрезвычайно велико.
В длинном ряду многочисленных легенд и преданий, унизывающих жизнеописание Сергия, есть, между прочим, одно, очень красивое, вполне ясно обрисовывающее эту именно сторону деятельности монастыря. Вот это предание.
Стояла тихая летняя ночь над обителью, и преподобный Сергий в келье своей стоял на обычной молитве; молился он, на этот раз, за духовных детей своих, за братию, и неожиданно слышит голос, зовущий его: «Сергий». Открыв волоковое оконце кельи, как бы на чей-то простой зов, видит он сквозь листву древесную все небо объятым неописуемо-прелестным светом и по свету этому, по всему монастырю, вдоль всей его ограды, летают какие-то красивые, невиданные им птицы и поют, поют необычайно сладостно! Неизвестный голос объяснил Сергию, что так именно умножится число учеников его. Тотчас же оповещенный об этом видении самим Сергием, один из братии успел увидеть только частицу этого убегавшего прелестного явления, этого непонятного, таявшего в ночи света и услышать несказанно сладко распевавших невиданных птиц...
Сергию минуло пятьдесят лет, когда, по желанию вселенского патриарха и митрополита, введено в обители общежитие. Пришлось устроить особые помещения, назначены: келарь, духовник, экклесиарх[31] и пр.; употреблявшийся прежде в обители устав студийский, как более простой, заменен уставом иерусалимским, требующим достаточного числа священников, имевшихся уже в обители. Сергий требовал от братии беспрекословного послушания и находил необходимым, чтобы даже поступь монахов была тихая и спокойная, с наклоненной головой, и чтобы наружность вполне соответствовала внутреннему смирению. Позже Иосиф Волоколамский, взявший себе Сергия за образец, определяет даже то, как стоять монахам на молитве: «стисни свои руде и соедини свои нозе и очи смежи и ум собери» и прибавляет, что, когда смотрят миряне, «тогда паче». Одновременно с устройством в обители общежития, введено в ной странноприимство, отличающее ее и до сих пор.
Если Сергию не удалось отклонить от себя игуменства, то другой, гораздо высший сан духовный, а именно предложение, сделанное ему митрополитом Алексием, посвятить его в епископа, а засим принять после него и престол митрополичий, игумен Сергий отклонил. Этот отказ вовсе не означал того, чтобы преподобный, посвятивший всего себя молитве, подвигу и устроению обители, как бы чуждался соприкосновения со светской жизнью. Вовсе нет; там, где благо народа и православие требовали этого участия, оно проявлялось полной мерой, и в этом отношении стоит Сергий превыше многих, если не всех, деятелей церкви нашей и очерчен на историческом горизонте великой, поразительной своеобразностью.
Годы деятельности св. Сергия были последними годами существования у нас удельной системы, весьма много повинной, как в татарском иге, так и в нарождении на западной границе нашей великих враждебных сил в лице умирающего балтийского рыцарства и давно умершего Царства Польского, со всеми их тяжкими последствиями. В историческом развитии больших народов, в некоторые более или менее продолжительные периоды их, возникают и имеются налицо такие задачи, от удачного или неудачного решения которых зависит вся дальнейшая жизнь этих народов. По самому существу своему непостижимые, путанные, не усваиваемые современниками, они составляют мучительную, неопределенную медицинским диагнозом болезнь времени, тем более опасную, что для многих, очень многих, болезнь эта кажется здоровьем, и потому что она приятна им. Разобрать, в чем дело, прочесть имеющееся налицо задание, как ту знаменитую огненную подпись на пиру Валтасаровом, которую начертала таинственная рука, может далеко не всякий, могут очень немногие, может статься — один только человек. Такой надписью, горевшей в те дни над русскими землями, еще находившимися в полном брожении, было уничтожение удельной системы, в силу которой престолонаследие переходило не от отца к сыну, а к старшему в роде. Кровью людской и бесконечным ослаблением страны свидетельствовалось последнее царство этой системы. Прямым следствием её, понятным, однако, в те дни очень немногим, явилось иго татарское, тяготевшее над Русью, сложилась Польша, возникло балтийское рыцарство.
Если теперь причина этого зла совершенно ясна нам; если мы, далекие потомки, тем более ясно понимаем ее, что видим в нынешнем могуществе России прямое следствие того, что совершила другая система престолонаследия, то догадываться о ней в те дни было далеко нелегко, и для этого требовалась особенно яркая государственная прозорливость. Возможность такого предвидения, такой прозорливости была тем труднее, что тогдашнее общение между отдельными княжествами, между частями будущей России являлось слабым, неполным; что о судьбах одного из княжений узнавалось в другом только урывками, случайно и во всяком случае не иначе, как после совершившегося факта; что самая мысль о возможности цельной России, что простое представление себе карты России, в те годы могли быть делом только особенно сильного, великого ума, — того, что называем мы теперь на обиходном языке нашем делом государственной гениальности.
Нельзя, конечно, и, пожалуй, не имеет права исследователь деятельности преподобного Сергия и принимать свои соображения за соображения, якобы руководившие им; но некоторая догадливость, некоторое наведение будут все-таки у места. Едва ли можно сомневаться в том, что мысль задумчивого, сосредоточенного ребенка, уже в самые ранние дни его жизни, поставленная к лицу с каким-то ему неизвестным, но могущественным положением вещей, заставившим его родителей покинуть родной им Ростов и переселиться в весь Радонежскую, чтобы эта мысль не имела для Сергия никакого значения. Нельзя также не обратить внимания на то, что юноша Сергий, почувствовав потребность уединения и молитвы в пустыне, ушел не куда-либо очень далеко, в дебри Олонецкого края, или Пермской земли, или еще далее, к Соловкам, как это сделали другие подвижники, поселившись там, где уединение могло быть действительно совершенным, а ограничился удалением в ближние пределы ростовские, сравнительно все-таки более населенные и, во всяком случае, очень близкие от Москвы. Кто решит: было это делом случая, или исторического соображения и провидения?
Далее, если присмотреться внимательнее к тем случаям жизни, в которых Сергий проступал, продвигался в кипучую деятельность общественных задач и судеб дня, то и в этом сказывается опять-таки целая своеобразная система. Если, как сказано, несомненно то, что мысль о значении единодержавия для России теплилась уже давно в светлейших умах наших князей и святителей; если она нашла себе сознательное воплощение в том, например, что святитель митрополит Петр нашел нужным переселиться навсегда из внушительного, богатого, блиставшего своими храмами Владимира-на-Клязьме в только что возникший тогда городок Москву; если преемник его, святитель Алексий, устоял против искушений обратного перенесения митрополичьего престола из Москвы во Владимир, то гораздо более долгой, упорной, замечательной последовательностью поражает ясность этой мысли именно в Сергии.
Сергию не было еще и сорока лет, когда, вполне сознав значение для России Москвы, он, покинувший родные ростовские пределы, именно вследствие московских притязаний, посетил в 1358 и 1363 году свой родной Ростов, чтобы уговорить князя Константина признать над собой власть великого княжения московского, что и было исполнено. Когда немного позже, а именно — в 1365 году, нижегородский князь Борис вздумал бороться с Москвой и не подчиняться ей, то смирить князя послан был Сергий, который, по данной ему от митрополита власти, не остановился пред тем, чтобы затворит в Нижнем Новгороде все храмы, прекратил богослужение и смирил непокорного князя Бориса. Есть основание полагать, что в 1371 году Сергий много способствовал примирению князей тверского и московского. В 1385 году, по личной просьбе князя Дмитрия, Сергий отправился в Рязань, для умиротворения беспокойного князя Олега, достиг этой цели и скрепил мир и любовь семейным союзом обоих княжеских домов, так как Софья Дмитриевна обвенчалась с сыном Олеговым, Феодором. Все эти великие по своим последствиям странствия в Нижний, в Ростов и Рязань Сергий совершал, по своему обыкновению, пешком.