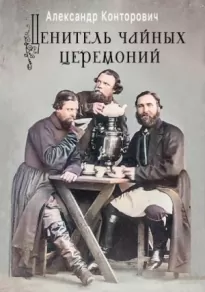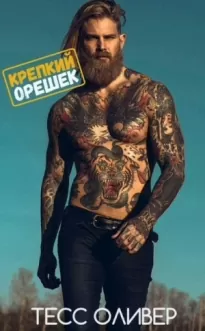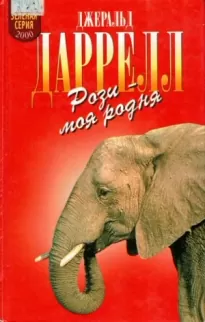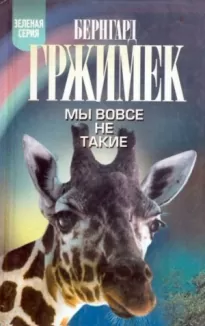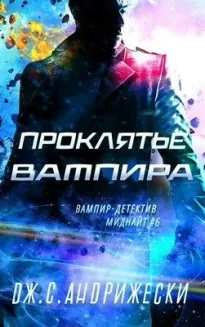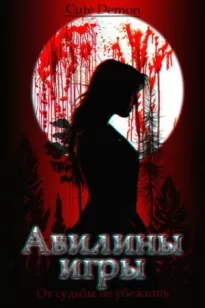В океане без компаса
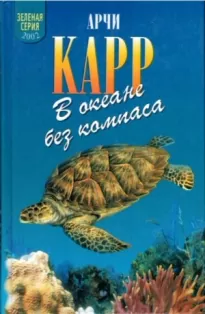
- Автор: Карр Арчи
- Жанр: Природа и животные
- Дата выхода: 2002
- Цикл: Зеленая серия (Вокруг света)
Читать книгу "В океане без компаса"
Ночное небо предлагает гораздо больше информации, чем дневное, хотя, повторяю, мы не знаем, в какой мере она доступна животным. Ночью стороны света можно определять с различной степенью точности при помощи не единственного, а многих ориентиров, причем некоторые звезды указывают направление и без помощи часов. Звезды и планеты не только образуют углы с направлением север — юг. Они, кроме того, слагаются в созвездия, расположение которых на небе меняется непрерывно и с абсолютной закономерностью, а потому их будущее положение всегда можно предсказать заранее, если у вас есть с собой «Астрономический ежегодник». И надо сделать еще очень многое, просто проверяя, что именно способны видеть животные-навигаторы, какую интенсивность света и какие цвета они различают, насколько точно способны они измерять угловые расстояния на небесной сфере и насколько хорошо запоминают их, чтобы позже сравнивать с другими угловыми расстояниями. Предполагалось, что птицы способны видеть звезды днем. Скорее всего, это нс так. Но если бы это оказалось правдой, то пришлось бы внести значительные изменения в способы исследования их методов ориентирования. Те опыты, которые Зауэры вели в Бременском планетарии, необходимо продолжить и расширить, начав с певчих птиц, которыми кончили Зауэры, а затем проверив всех важнейших мигрирующих животных, особенно тех, кто находит острова, кто путешествует в открытом море.
Далее, для нахождения места по небесным телам необходимы часы, точно показывающие время в пункте отправления. Моряк руководствуется гринвичским временем. Для птицы и для черепахи гринвичское время не означает ничего. Время, которым они руководствуются, — это, скорее всего, время того пункта, откуда они отправились в путь. Часы, отмечающие это неизменное время, не могут быть теми же часами, которые используются в компасном чувстве. Чтобы часы компасного чувства были полезны в разных географических областях, их необходимо постоянно переводить. Навигационные же часы должны строжайше сохранять время пункта отправления. Дело в том, что для определения места требуется долгота. А долготу можно определить, только зная время в Гринвиче, или в Ресифи, или в любом другом исходном пункте путешествия. Определить, насколько вы продвинулись на восток или на запад, можно, только узнав разницу между вашим нынешним временем и временем там, откуда вы отправились. Если ваши часы переведены на время того места, где вы заблудились, они могут служить компасными часами, но для определения долготы годиться не будут. Для определения долготы путешественнику требуются неменяющиеся часы, которые упрямо показывают время того пункта, откуда он отправился в путь. Таким образом, для ориентирования по долготе и широте животным, по-видимому, требуется двое часов.
На мой взгляд, это не должно вызывать особых затруднений. Весьма вероятно, что животные располагают гораздо большим числом часовых механизмов.
Но достаточно ли точны биологические часы, чтобы их можно было использовать в качестве хронометра при решении тех навигационных задач, которые, как известно, решают животные? Вот еще один из множества вопросов, на которые необходимо найти ответ, прежде чем можно будет принять теорию ориентирования по небесным телам. Наиболее точные биологические часы, которые пока удалось обнаружить экспериментальным путем, — это часы, которые отмечают начало периода активности у летяг. Их отклонение достигало только двух минут за десять суток. Пользуясь такими часами, летяга, которую в течение десяти суток носил бы ураган, могла бы затем вычислить свою долготу с ошибкой только в тридцать минут. На экваторе это означало бы ошибку в тридцать морских миль, а на широте сорок пять градусов — всего только в двадцать одну морскую милю. В любом случае это прекрасная точность. А ведь не исключено, что есть и гораздо более точные биологические часы. Такие часы почти наверное существуют.
Моряк определял свое место по отношению к острову Мета с помощью хронометра, секстана и компаса. Черепаха и птица должны были проделать то же самое, пользуясь своими глазами и определяя время по надежным внутренним ритмам. И тут биологу предстоит решить, верит ли он, что глаза и внутренние ритмы достаточно точны и гибки, чтобы заменить навигационные инструменты.
Кроме того, как вы помните, моряк пользовался таблицами «Астрономического ежегодника». И теория ориентирования животных по небесным телам начинает вызывать наибольшие сомнения, именно когда приходится отыскивать в природе эквиваленты подобных справочников. Ведь необходимо допустить, что нервная система животных-навигаторов содержит все те сведения, которые человек так долго и с таким трудом накапливал в картах Земли и звездного неба. У животного они принимают форму соответствующих реакций на позицию, взаимное расположение или угловую высоту небесных тел в определенное время. Для того чтобы из какой-то одной точки земной поверхности добраться в другую, вам достаточно только посмотреть на небесные тела, зная, какова их угловая высота, а может быть, и азимут, и угол между ними; затем, вспомнив, какое сейчас время года и который час, смело пускайтесь в дорогу. Если вы будете знать все это, то пойдете в нужном направлении. При желании вы можете назвать этот процесс определением широты и долготы. Отчасти это так, а отчасти нет. Когда моряк, крачка и черепаха ориентируются по небесным телам, главная разница заключается не в инструментах. Главное тут — их внутреннее состояние.
Моряк ищет путь к месту, куда он сознательно хочет попасть. Ни черепаха, ни крачка ничего подобного не делают. Они всего лишь реагируют на определенные стимулы и ведут себя так, как того требуют определенные сигналы. Сигналы эти поступают от часов внутри них и от солнца и звезд снаружи. Животные не вытаскивают карт и не проводят на них линию от того места, где они находятся, к своей цели, как это делает моряк. Они только пускаются в путь и подчиняются сигналам. Если они проделывают столь сложную вещь, то лишь потому, что этого требует врожденное чувство, что за бесчисленные века проб и ошибок их вид установил, что для размножения ему выгодно подчиняться определенным сигналам, соответствующим данному сезону, времени и месту. Предки, которые следовали этим сигналам, все более устойчиво передавали свой опыт всему виду. А предки, которые им не следовали, не давали потомства.
Чудо (если оно все-таки существует) заключается именно в том, что сведения о движении небесных тел и о его соотношении с точками земной поверхности передаются по наследству. Собственно говоря, мы обескураживающе мало знаем о характере и свойствах этой передающейся по наследству карты земли и неба, которой, как нам кажется, обладают некоторые животные. Неужели весь Тихий океан — всего лишь решетка, заложенная в генах и в мозгу певчей птицы? Неужели карта всего звездного неба с поправками на время года и на время суток хранится в голове полярной крачки? Вот что подразумевает теория ориентирования по небесным телам и вот чему ученые пока еще не могут найти никакого объяснения.
Хотя для проверки возможностей и остроты зрения животных-навигаторов требуется еще много тщательно разработанных экспериментов, решить эту проблему все равно не удастся, пока не будут проведены необходимые полевые наблюдения. Их следует вести в двух главных направлениях — ставя опыты с хомингом и налаживая слежение. Когда методика слежения будет разработана в достаточной степени, оба эти типа исследований можно будет объединить с большой выгодой для них обоих, но пока их приходится вести раздельно.
Говоря о хоминге, мы подразумеваем способность некоторых животных возвращаться на свою обычную территорию после того, как они были оттуда увезены. Такое возвращение требует умения ориентироваться, потому что оно невозможно без двух чрезвычайно точных операций — определения своего места и выбора правильного пути к отдаленному пункту назначения. Если флоридскую кошку посадили в корзину, увезли в Орегон и там выпустили, а она направилась оттуда прямо во Флориду, такая кошка проявила весьма интересные навигационные способности. И будет полезно заставить ее повторить то же самое несколько раз. Существует множество историй о таких возвращениях и кошек, и собак, и лошадей, и многих других домашних животных. Некоторые из этих историй — явные небылицы, другие же выглядят весьма правдоподобно. Но, во всяком случае, ни одну из них нельзя рассматривать в качестве полноценного научного доказательства. Однако и при условии их полной достоверности они только указывают на существование у животных способности возвращаться в родные места, но никак ее не объясняют. И рассказы бабушек и дедушек об их умных любимцах такого объяснения не подскажут. Эта способность требует тщательного изучения. Детально разработанные эксперименты по хомингу могли бы пролить свет на тайну навигации у животных. Но подобные эксперименты ставятся чрезвычайно редко, и это очень затрудняет исследования.
Наибольший интерес представляли бы опыты по изучению способности животных находить острова. В этом случае внешние условия оказываются под наиболее строгим контролем, так как число возможных ориентиров резко сокращается. Виды птиц, разыскивающих острова, включают и большинство наиболее знаменитых пернатых навигаторов, и логично ожидать, что именно они будут успешнее других отыскивать свой дом. В число известных нам животных, которые умеют отыскивать острова, входят многие птицы (различные крачки, альбатросы, певчие птицы, пингвины), а кроме того, тюлени и зеленые черепахи. Вполне возможно, что существует еше много мигрирующих животных, способных ориентироваться в открытом море не хуже тех, которые отыскивают острова, и они тоже могли бы их отыскивать, если бы у их вида возникла такая потребность. Однако хорошим объектом для опытов по возвращению в родные места может быть только животное, действия которого настолько целеустремленны, что позволяют получить четкие и недвусмысленные результаты.
Главный недостаток опытов по изучению хоминга заключается в том, что при любой массовости и при самом удачном выборе пунктов, где животные выпускаются на свободу, контакт с подопытными животными (например, с крачками, выпущенными в тысяче миль от родного острова) возможен только в месте их выпуска и вторичной поимки. А все остальное приходится выводить с помощью логических рассуждении. Данные, полученные благодаря вторичной поимке меченого животного, могут укрепить уверенность в существовании способности находить родные места, могут сообщить кое-какие сведения о скорости передвижения животного, но не откроют нам никаких подробностей об избранном им пути. А не зная пути, нельзя разобраться в сложном процессе ориентирования на дальних расстояниях, тем более что на разных этапах он, возможно, протекает по-разному.
Последние пять лет я тратил много времени на то, чтобы точно проследить пути и расписания мигрирующих зеленых черепах. Например, бразильских зеленых черепах нужно было бы проследить прямо до острова Вознесения. Если бы это удалось, многие вопросы разрешились бы сами собой. Мы узнали бы, например, действительно ли эта миграция происходит, как представляется наиболее вероятным, по кратчайшему расстоянию между островом Вознесения и Бразилией, то есть все время навстречу Экваториальному противотечению. Ведь в конце концов можно представить себе еще два пути, подходящие для пассивного путешествия, которое не всегда требует ориентирования. Один такой путь пролегает по Гольфстриму. Проплыв немного на север, черепахи из Пернамбуко могли бы попасть в ту струю глобальной петли Гольфстрима, которая устремляется на северо-восток. Одна ветвь этой струи уходит в Карибское море, а другая проходит вне его, по краю цепочки Вест-Индских островов. Затем эти две ветви вновь соединяются, и течение поворачивает на восток, в Северную Атлантику, откуда устремляется на юг, к Африке, и от ее западного выступа уходит к острову Вознесения уже как Северное Экваториальное противотечение. Другой путь, от Бразилии к острову Вознесения, потребовал бы от путешественника еще меньше усилий, но с ним связано больше трудностей. Избравшие его черепахи должны отплыть от берега на несколько миль и отыскать там течение, уходящее на юг. Когда Экваториальное противотечение разбивается о побережье Бразилии, одна его ветвь, о которой я только что упоминал, поворачивает на север, а другая отбрасывается к югу и называется уже Бразильским течением. Попавшую в него черепаху течение Западных Ветров унесет к южной оконечности Африки, где выбросит в Бенгальское течение, идущее на север вдоль африканского побережья. У самого экватора Бенгальское течение поворачивает на запад как ветвь уже знакомого нам Экваториального противотечения, которое омывает остров Вознесения и в конце концов возвращается к Южной Америке. Однако этот путь не только так же долог и беден кормом, как путь по Гольфстриму, но к тому же приводит тропическую черепаху в суровые, охлажденные Антарктикой воды течения Западных Ветров, температура которого колеблется между 5 и 15°. Зеленой черепахе там пришлось бы туго, и поэтому из трех указанных путей южный представляется нам наименее вероятным. Однако все три потенциально возможны, и уже одно это очень мешает созданию теории навигации у животных. Тщательно разработанные опыты с возвращением в родные места могли бы положить конец этой неясности. Успешное же слежение покончило бы с ней сразу же.