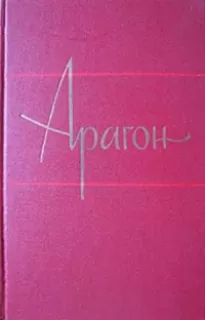Том 2. Эфирный тракт
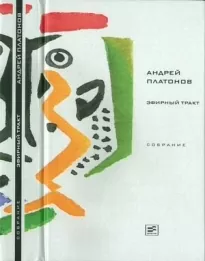
- Автор: Андрей Платонов
- Жанр: Русская классическая проза
- Дата выхода: 2011
Читать книгу "Том 2. Эфирный тракт"
* * *
Пока Кирпичников отдыхал в Волошине, мир сотрясала сенсация. В Болыпеозерской тундре экспедицией профессора Гомонова откопаны два трупа: мужчина и женщина лежали обнявшись на сохранившемся ковре. Ковер был голубого цвета, без рисунка, покрытый тонким мехом неизвестного животного. Люди лежали одетыми в плотные сплошные ткани темного цвета, покрытые изображениями изящных высоких растений, кончавшихся вверху цветком в два лепестка. Мужчина был стар, женщина молода. Вероятно, отец и дочь. Лица и тела были того же строения, что и люди, обнаруженные в Нижнеколымской тундре. То же выражение спокойных лиц: полуулыбка, полусожаление, полуразмышление, – будто воин завоевал мраморный неприступный город, но среди статуй, зданий и неизвестных сооружений упал и умер, усталый и удивленный.
Мужчина крепко сжимал женщину, как бы защищая ее покой и целомудрие для смерти. Под ковром, на котором лежали эти мертвые обитатели древней тундры, были найдены две книги – одна была напечатана тем же шрифтом, что и книжка, найденная в Нижнеколымской тундре, другая имела иные знаки. Эти знаки были не буквами, а некоторой символикой, однако с очень точным соответствием каждому символу отдельного понятия. Символов было чрезвычайное множество, поэтому ушло целых пять месяцев на их расшифровку. После этого книга была переведена и издана под наблюдением Академии филологических наук. Часть текста найденной книги осталась неразгаданной: какой-то химический состав, вероятно находившийся в ковре, безвозвратно погубил драгоценные страницы – они стали черными, и никакая реакция не выявляла на них символических значков.
Содержание найденного произведения было отвлеченно-философское, отчасти историко-социологическое. Все же сочинение представляло такой глубокий интерес как по теме, так и по блестящему стилю, что книжка в течение двух месяцев вышла в одиннадцати изданиях подряд.
Кирпичников выписал книгу. Везде и всюду он искал одного – помощи для разгадки эфирного тракта.
Когда он посетил Матиссена, на обратном пути что-то зацепилось в его голове, он обрадовался, но потом снова все распалось – и Кирпичников увидел, что работы Матиссена имеют лишь отдаленное родство с его мучительной проблемой.
Получив книгу, Кирпичников углубился в нее, томимый одною мыслью, ища между строк неясного намека на решение своей мечты. Несмотря на дикость, на безумие искать поддержки в открытии эфирного тракта у болыиеозерской культуры, Кирпичников с затаенным дыханием прочел сочинение мертвого философа.
Сочинение не имело имени автора, называлось оно «Песни Аюны» и содержало в себе следующие мысли:
…Вера есть двигатель творчества; знание есть созерцание сотворенного, замедленная, застывшая вера – сомнение.
Вторая формула и есть фигура духа современной нам Хорпайи, обреченной страны. И сколько бы ни писалось книг, сколько бы ни мучилось голов, они не вырвутся из этих живых (потому что истинных) слов: творчество есть вера, а знание – сомнение, медленная вера, точка творчества, нуль жизни.
Знание – это отбросы творчества, то, что переварено в человеческой сокровенности и выкинуто вон. Знание то, что я сделал и перестал любить, потому что кончил, завершил; вера-творчество есть то, что люблю я, люблю потому, что не имею и не знаю, что не прошло через меня и не стало прошлым. Творчество есть всегда любовь к будущему, несбывшемуся и невозможному. Великий покой, четкая, суровая, жесткая оформленность должны быть в душе творящего: он противопоставляет себя хаосу – т. е. будущему, не существующему, – и делает из него настоящее – твердые комки вещей – мир. Душа художника должна быть тверже и упорнее всех вещей в мире. Искусство есть, может быть, время – и больше нечего, оно есть трансформация хаоса, его ограничение, делание пространства из времени, ибо только ограниченное – форма – доступно желудку сознания. Хаос есть зимнее холодное поле, а художник – теплота, от которой тает снег и растет трава. Когда хаос – черная немая птица – пойман и посажен в клетку, он становится миром, т. е. прошлым, пройденным, перестраданным, и отношение к миру у человека может быть только одно – познание его. Но – никогда не оглядывайся назад: остановишься! Творчество же есть крылья и движение к тому, чего нет, что невозможно, неведомо, неимоверно, но что будет, должно быть неотвратимо. Может быть, творчество есть чудовищное сомнение в спасении, в цели, в остановке и страстные поиски окончательной гибели. Судьба – аккомпанемент искусства, никогда не заглушаемый никакими взрывами и пожарами духа, потому что судьба творчества есть свобода его. То, что будет, есть время, то, что было, есть пространство. Иначе: пространство есть прошлое замерзшее время; время – нерожденное пространство, хаос, не превращенный жаркой и верующей душой художника в комки вещей.
Только человек-художник стоит посреди – на зыбкой волнующейся грани времени и пространства и неутомимо, бессменно строит из жидкой пламенной лавы времени твердые холодные камни – пространство.
Сейчас по Хорпайе курсирует ослепительная книга Зун-Зойги о закате Хорпайи, о падении и смерти Хорпайской аюны. Зун-Зойгу там обожают и клянут, но и кто клянет, тайно любит его. Я где-то читал, что искусство есть мать любви, а Зун-Зойга – источник мощного искусства мысли. Зун-Зойга – универсальный мыслитель Хорпайи, он свободно и радостно, не запинаясь и не сомневаясь, играет на современной чудовищно сложной клавиатуре древней хорпайистской аюны. Математика и религия, музыка и политика, история и инженерное искусство – все под его пальцами поет и служит его единой любимой идее – близкой катастрофе Хорпайи. Зун-Зойга – музыкант слова, он сравним только с Моравендом по какой-то фиолетовой глубине и гибельности стиля, по скорбному напеву слов. Есть органическое соединений слов – тогда все слова живые, как цветы, и им нельзя не верить; есть механическая сцепка слов – тогда они есть ложь и песок. У Зун-Зойги – органика, а не механика слов; его философия – песня, а не рассчитанная техника логики. И Зун-Зойга – опасный человек. Он настолько артист слова, что может какую угодно чепуху написать, но так написать, так торжествующе уверенно, ослепляющее написать, что ему поверят все, а он засмеется после надо всеми. Но пусть не надеется, не всех одинаково очаровывает красота – есть вещи поважнее и попрекраснее красоты.
Книга Зун-Зойги – до конца честная книга, книга мужественного человека, полюбившего свою гибель, не верящего и не нуждающегося ни в каком спасении.
Гибель, катастрофа Хорпайи – вот главный напев его книги. Аюна[2] становится литой[3], а лита есть смерть аюны – тихо и, для малосведущих, убедительно говорит Зун-Зойга.
Аюна – вообще аюна, а не только хорпаистская, – это когда человек, нация, раса делают в себе свою душу посредством внешнего мира.
Лита – это когда уже душа сделана, закончена и энергия такой завершенной души обращается на внешний мир для изменений его на потребу себе.
Аюна – когда мир делает душу. Лита, когда насыщенная, полная мощная душа переделывает мир. При лите человек или раса, т. е. ломоть человечества, – хочет весь мир сделать своей сокровенной душой, а при аюне человек хочет вырвать из мира только кусок его, что ему мило и необходимо, – душу.
Аюна – это искусство, а лита – техника, гидрофикация. Это мысли не Зун-Зойги, а мои, но чтобы сделать анализ и прогноз современной Аюны нашей соседки – Хорпайи, которой сам Зун-Зойга есть совершеннейшее произведение, я должен начать именно так, как начал.
Сделать это можно только в целой серии книг – так и будет сделано, ибо вопрос огромен, запутан, мрачен, а разрубать его не остроумно и не для всех будет это понятно, – следовательно, надо по единой нити его весь распутать.
В Зун-Зойге – океан мысли, и каждую мало понять, но надо всосать в себя, перевести в эмоцию и, перестрадав, выжить ее из себя. Кто же Зун-Зойга – пророк или только художник, вакханка сознания? Дело, конечно, не в Зун-Зойге, но Зун-Зойга – сконцентрированное выражение хорпаистской аюны, вот почему он так интересен. Ведь если хорпаистские нуали[4] скоро не выступят, то и в Муании[5] власть аюны не наступит. Это будет освещено и оживлено в следующей книге.
Зун-Зойга не верит в контакт, в преемственность или даже отдаленную родственность отдельных аюн. Каждая аюна одинока; рождается, расцветает и погасает в лите, без следа, без эха и истории и вечности. Вот его волнующие слова об этом:
«Нет бессмертных творений. Последний аюн и последняя пойя[6] будут когда-нибудь расщеплены; чарующий мир наших поэм и наших симфоний, всего только несколько лет тому назад нами, но и только для нас рожденные, замолкнет и исчезнет. Высочайшие достижения хорпаистской мелодики и гармонии покажутся будущим аюнам идиотическим карканьем странных инструментов. Скорее, чем успеют истлеть полотна Вернайи и Листрейи, переведутся те последние души, для которых эти полотна будут чем-то большим, чем цветными лоскутами. Кто понимает сейчас саргонасскую лирику? Кто знает, кто чувствует, что она значила для людей мира Саргоны[7]?»
Есть ли лита смерть аюны, души, окостенение и превращение в ничтожество расносительниц и авторов аюн? Или – нет, или наоборот, или истинное решение вопроса осталось неизвестным Зун-Зойге? Одинока ли и обречена ли на смерть без памяти в грядущем всякая аюна, и возможна ли еще аюна в Хорпайе; иначе говоря, возможно ли в Хорпайе восстание нуалей и воскрешение аюны, как это случилось у нас в Муании!..
Три страницы книжки не разобраны и не переведены (сильно повреждены) – далее опять следует ясная часть.
…Отношение истории к природе то же, что отношение времени к пространству. История вовсе не есть только внутричеловеческое понятие: если бы это было так, то мир был бы грудой независимых друг от друга вещей, а не живым цветущим организмом процессов, каким мы его знаем.
Природа есть тень истории, ее отбросы, экскременты – то, что было когда-то живым и движущимся, т. е. временем, полетом, будущим, и то, что стало теперь прошлым, пространством, материей, формой, одиноким забытым камнем на покинутой дороге.
Нам надо переоценить историю и природу: историю одну сделать вещью, достойной познания, и оставить природу в стороне, позади, как хлам, как время, съеденное историей и превращенное ею в пространство, – в мрачное тюремное ущелье, тихий и просторный белый каземат. Человечество в природе-пространстве – это голодный в зимнем поле: ему нужны не ветер и воля одному умирать, а хлеб и уют натопленного жилья. Человечество в истории – это всежаждущее существо, это беззаконная душа со всемогущими неустанными пламенными крыльями. Закон, точная форма, гармоническая зависимость процессов, симметрия – это же только следы улетающей свободы, ее отбросы, окаменелые экскременты. И природа – есть закон, путь, оставленный историей, дорога, по которой когда-то прошла пламенная танцующая душа человечества. Природа – бывшая история, идол прошлого. История – будущая природа, тропа в неведомое. Ибо неведомое есть неимоверное разноцветное множество неродившихся вселенных, которое не охватывает раскосый взор человечества – и только поэтому возможна и действительно есть свобода: есть всемогущество в творчестве, есть бесконечность в выборе форм творчества.