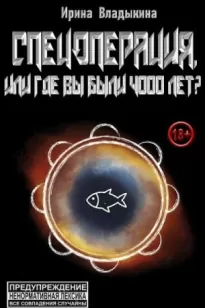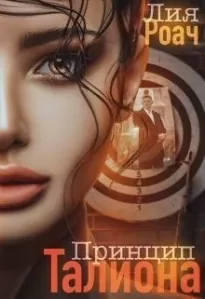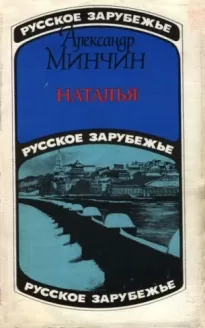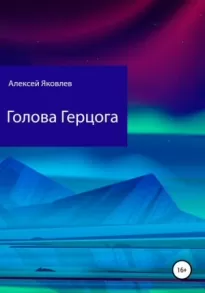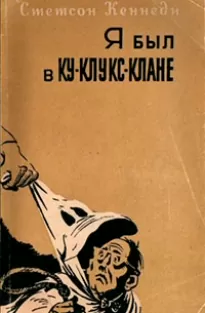Том 5. Преступление и наказание

- Автор: Федор Достоевский
- Жанр: Русская классическая проза
- Дата выхода: 1989
Читать книгу "Том 5. Преступление и наказание"
Обнаружившийся в годы Крымской войны кризис правительственной системы Николая I побудил царское правительство пойти в 1860-х годах вслед за проведением крестьянской на подготовку судебной реформы. После Крымской войны в русской печати — демократической и либеральной — были широко подвергнуты критике дореформенный суд и вся совокупность связанных с ним учреждений, юридических порядков и норм. В обсуждении этих вопросов заметное участие в начале 1860-х годов принял Достоевский как автор «Записок из Мертвого дома», редактор «Времени» и «Эпохи». Волна общественного возбуждения заставила правительство Александра II опубликовать в ноябре 1864 г. новые судебные уставы, заменявшие старый суд, целиком зависимый от правительственной администрации, новыми судебными учреждениями с адвокатами и присяжными.
Вопросы, обсуждавшиеся в годы создания романа в русском обществе в печати и юридической науке в связи с проведением судебной реформы, также получили широкое отображение в романе. Это — проблема преступления в ее связи с общим строем социальной жизни, вопрос о соотношении влияния различных — социальных, нравственных и медико-патологических — факторов на волю преступника, об его нравственной и юридической ответственности за свои действия, о необходимости замены старых невежественных деятелей дореформенной полиции и суда новым типом деятелей, владеющих достижениями современной юридической и психологической науки (такой тип деятеля критически обрисован в романе в лице Порфирия). В решении указанных вопросов Достоевский шел своим особым путем, развивая общий взгляд на причины, порождающие преступление, и пути исправления преступника, который был намечен им в «Записках из Мертвого дома»: соглашаясь с огромной ролью социально-исторической среды и обстановки в формировании характера и психологии преступника, Достоевский в то же время отводил такую же важную роль нравственным факторам. Писатель предостерегал современную ему юриспруденцию против оправдания преступника воздействием окружающей среды и против отрицания его личной нравственной ответственности за свои действия. Эта позиция Достоевского заставила его в романе многократно полемизировать по различным юридическим вопросам с современными ему правовыми и судебно-медицинскими учениями.
Появление «Преступления и наказания» было подготовлено широким развитием в России начала 1860-х годов очерка, рассказа и повести из жизни большого города, дававших «протокольные», физиологически точные зарисовки быта Петербурга, Москвы и провинции и проникнутых глубоким сочувствием к городским низам. В журналах Достоевского «Время» и «Эпоха» был помещен ряд очерков и рассказов такого рода — Н. Г. Помяловского, В. В. Крестовского, П. Н. Горского, А. И. Левитова, М. А. Воронова и др. Аналогичные по типу и содержанию произведения печатались и в других тогдашних изданиях, в частности в революционно-демократическом «Современнике».
Однако вместо разрозненных очерковых зарисовок, характерных для его предшественников, Достоевский дал в «Преступлении и наказании» широкую и цельную панораму Петербурга, и, что еще важнее, социально-бытовой план романа он слил с психологическим и философским, соединив в нем изображение самых «простых», повседневных фактов жизни города с их сложной символической трактовкой, углублением в широкий круг тех социальных, философских и нравственных вопросов, вокруг которых сосредоточена главная идейно-художественная проблематика романа.
Обстановка в «Преступлении и наказании» насыщена контрастами света и тени. Самые трагические и впечатляющие эпизоды разыгрываются здесь в трактирах, на грязных улицах, в гуще обыденности и прозы — и это подчеркивает глухоту страшного мира, окружающего героев, к человеческой боли и страданию. Как в трагедиях Шекспира, в действии принимают участие не только люди, но и стихии — природа и город, вода и земля. Они выступают как силы то дружественные, то враждебные людям. Раскольников перед убийством почти физически задыхается в каменном мешке жаркого, душного и пыльного города; он живет в каморке, похожей на гроб. Самоубийство Свидригайлова происходит сырой и дождливой ночью, когда не только переполняется чаша его страданий, но и вся природа, кажется, хочет выйти из берегов. Многие эпизоды тонут в своеобразном «рембрандтовском» освещении. Существенную роль играют в романе также философские и числовые символы (сны Раскольникова, возвращение — дважды — к евангельскому рассказу о воскресении Лазаря, символизирующее способность героя к нравственному возрождению, три посещения Раскольниковым Порфирия и Сони и т. д.).
Так возник новый, характерный для Достоевского, насыщенный философской мыслью тип идеологического «романа-трагедии», классическим образцом которого можно считать «Преступление и наказание». Явившись своеобразным зеркалом общественной жизни эпохи, он впитал в себя многочисленные традиции предшествующей мировой литературы.
Стремясь исследовать сложный клубок философско-нравственных проблем своей эпохи, Достоевский в то же время считал, что проблемы эти неразрывно связаны с «вековечными» проблемами, всегда занимавшими величайшие умы человечества. Отсюда его внимание к тем произведениям мировой литературы, которые в прошлом и в современную ему эпоху поднимали вопросы, близкие к философско-нравственной проблематике романа.
Раскольников — петербургский студент, русский юноша 1860-х годов. Но его духовный мир сложным образом соотнесен в романе не только с духовным миром современного ему поколения, но и с историческими образами прошлого, частично названными (Наполеон, Магомет, шиллеровские герои), а частично не названными в романе (пушкинские Германн, Борис Годунов, Самозванец; бальзаковский Растиньяк, Ласенер и т. д.). Это позволило автору предельно расширить и углубить образ главного героя, придать ему желаемую философскую масштабность.
В русской литературе XIX в. трагическая тема «Преступления и наказания» была подготовлена творчеством Пушкина — романиста, поэта и драматурга. Основная сюжетная коллизия «Пиковой дамы» — поединок полунищего бедняка Германна, наделенного «профилем Наполеона» и «душой Мефистофеля», с доживающей свою жизнь, никому не нужной старухой графиней через три десятилетия вновь ожила у Достоевского в трагическом поединке Раскольникова с другой старухой — ростовщицей. Сам Достоевский указал на эту связь, охарактеризовав пушкинского Германна как «колоссальное лицо, необычайный, совершенно петербургский тип, — тип из петербургского периода» русской истории («Подросток», ч. 1, гл. VIII). Не менее тесно связан «бунт» Раскольникова с бунтом Евгения из «Медного всадника». Но и Сильвио — герой повести «Выстрел», Борис Годунов, страдающий от последствий своего преступления, Сальери с его мрачными, уединенными сомнениями и нравственными терзаниями в определенной степени ввели Достоевского в круг тех психологических и нравственных проблем, которые стоят в центре «Преступления и наказания». Пушкин не только обрисовал душевные терзания честолюбивого, полного сил молодого человека, страдающего от своего неравного положения в обществе, не только впервые в русской литературе дал психологическую драму убийцы, являющегося жертвой своего отравленного ядом индивидуализма, нравственно больного сознания. В стихотворениях, посвященных Наполеону (в особенности в оде «Наполеон», 1821), поэт очертил общие контуры той «наполеоновской» психологии, которая неотразимо притягивает мысль Раскольникова. Позднее, в «Евгении Онегине» (гл. 2, XIV), «наполеоновские» мечты рассматриваются Пушкиным уже как настроение не одного, но многих, безымянных наполеонов, как черты целого нарождающегося общественного типа:
Мы все глядим в Наполеоны:
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно…
Поставленная Пушкиным проблема судьбы современного человека «наполеоновского», индивидуалистического склада с его «озлобленным умом» и «безмерными» мечтаньями, не останавливающегося перед мыслью о преступлении, в новом аспекте получила развитие у Лермонтова в «Маскараде» и «Герое нашего времени». В судьбе лермонтовских Вадима, Печорина, Демона, в гоголевском Чарткове (в повести «Портрет») определенную роль играли и индивидуалистические мотивы, и тема преступления, и мотив психологического экспериментирования над собой (особенно отчетливо выраженный у Печорина).
Индивидуалистическое умонастроение, приводящее к противопоставлению отдельных избранных людей толпе, колебания между «обычной» моралью толпы и преступлением были характерны и для многих героев западноевропейской литературы. Таковы Мельмот-скиталец Метьюрина, Медард Э. Т. А. Гофмана («Эликсиры сатаны»). Сочетание страстного протеста против несправедливостей общества с повышенным чувством личности и горделивым недоверием к «обыкновенным» людям было свойственно героям Байрона — Корсару, Ларе, Манфреду. Встречается подобное умонастроение и в творчестве других западноевропейских романтиков. Сам Достоевский в черновых материалах к роману сопоставляет Раскольникова с Жаном Сбогаром — романтическим разбойником и бунтарем-индивидуалистом, героем одноименного романа Ш. Нодье (1818). Близкие Раскольникову психологические мотивы можно найти и во французском реалистическом романе 30-40-х годов XIX в. у молодых героев Бальзака и Стендаля — Растиньяка («Отец Горио», 1835) и Жюльена Сореля («Красное и черное», 1830). В черновике речи Достоевского о Пушкине (1880) есть строки: «У Бальзака в одном романе один молодой человек в тоске перед нравственной задачей, которую не в силах еще разрешить, обращается с вопросом к любимому своему товарищу, студенту, и спрашивает его: „Послушай, представь себе, ты нищий, у тебя ни гроша, и вдруг где-то там, в Китае, есть дряхлый, больной мандарин, и тебе стоит только здесь, в Париже, не сходя с места, сказать про себя: умри, мандарин, и за смерть мандарина тебе волшебник пошлет сейчас миллион, и никому это неизвестно и, главное, в Китае …“. Вот вопрос, и вот ответ: „Est-il bien vieux ton Mandarin? Eh bien, non, je ne veux pas“.[44] Вот решение французского студента» (XXVI, 288). Эти строки, в которых речь идет о разговоре Растиньяка и его друга Бьяншона в романе Бальзака «Отец Горио»,[45] указывают, что Достоевский хорошо помнил соответствующий эпизод названного романа Бальзака, тематически близкий «Преступлению и наказанию». В Англии Э. Бульвер в романе «Юджин Арам» (1831), основанном на действительном происшествии, случившемся в середине XVIII в., рассказал о судьбе молодого ученого, которого нужда и мечты о великом научном открытии привели к преступлению, сходному с преступлением Раскольникова. Э. Гаскел в своем более позднем социальном романе «Мэри Бартон» (1848), русский перевод которого был напечатан в 1861 г. в журнале «Время», ярко обрисовала историю падшей женщины и картину нравственных мук рабочего-убийцы Бартона после совершенного им убийства фабриканта Карсонса. «Последний день приговоренного к смерти» (1829) В. Гюго и его же прочитанные Достоевским летом 1862 г. в Италии «Отверженные» (1862), затрагивавшие близкие автору вопросы и остававшиеся в годы создания «Преступления и наказания» литературной злобой дня, также сыграли определенную, более или менее заметную роль для процесса формирования и развития социальной и философско-этической проблематики «Преступления и наказания».