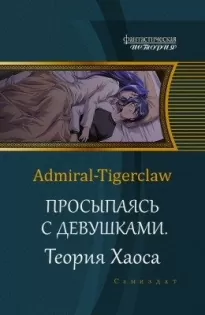Был однажды такой театр (Повести)

- Автор: Миклош Дярфаш
- Жанр: Самиздат, сетевая литература
- Дата выхода: 1990
Читать книгу "Был однажды такой театр (Повести)"
Эти воспоминания с необычайной остротой охватили его именно теперь, когда он, опустив голову, брел за гробом Тордаи в ряду других студентов театрального института. Процессия направлялась к кладбищу Керепеши. Весь путь от Национального театра до Восточного вокзала был запружен траурной толпой. Гражданская панихида проходила в Национальном театре. Выступали многие, среди прочих — даже нарком. Потом гроб водрузили на катафалк…
Все это было восьмого апреля 1919 года. Накануне состоялись выборы. Тревоги и волнения предыдущих дней придавали похоронам особую торжественность. В это ясное, насквозь высвеченное солнцем весеннее утро даже смерть казалась возвышенной и прекрасной. Хмельной воздух революционных дней, буйный, неукротимый апрель, сообщения о народных победах вызывали странную уверенность в том, что Тордаи уходит в бессмертие.
Смерть Тордаи — он умер в одночасье, от паралича сердца — повергла Дюлу в глубокое отчаяние. Он никак не мог смириться с возмутительной несправедливостью: почему великий художник должен был умереть ни с того ни с сего, без всякого разумного объяснения, из-за какой-то нелепой ошибки в организме? Он злился на Тордаи, сказавшего как-то в ресторане «Нью-Йорк», что лишь теперь, приближаясь к пятидесяти, он, кажется, начинает понимать что-то в своем ремесле. В ушах до сих пор стояли слова: «Мне бы продержаться еще годков пятнадцать-двадцать, тогда я, может, сыграю так, что останусь доволен собой». Он не сдержал слова, не стал ждать и пятнадцати лет. Временами Дюле начинало казаться, что смерть Тордаи — не более чем каприз. Просто в один прекрасный момент он взял и решил все бросить. Невзирая на всю свою боль, Дюла не мог не завидовать этой надменной, элегантной, почти издевательской смерти. Собственный порок сердца предстал перед ним в совершенно новом свете — он давал возможность когда-нибудь последовать примеру учителя.
И без того нелегкий день завершился еще одним потрясением. Дюла сидел в кафе Бранковича, пил бесплатный кофе и жевал хлеб (после установления пролетарской диктатуры порция увеличилась втрое). Подняв голову, он увидел, что к нему направляется господин Пери, известный театральный агент, при советской власти занявшийся проведением культурных мероприятий.
— Торш, вы должны завтра поехать в Надьвашархей. Покойный господин Тордаи говорил мне, что вы оттуда родом. Актеры Национального театра дают для вашархейских рабочих концерт. Вы, говорят, много стихов Ади знаете. Получите пятьдесят крон за выступление, ну и на дорожные расходы, разумеется. Все — за государственный счет. В восемь утра у касс на Восточном вокзале. С институтским начальством я договорился.
На ходу произнеся свою тираду, господин Пери удалился, не дожидаясь ответа. Это можно было понять — любой студент был бы в восторге от свалившейся с неба удачи. Поэтому господин Пери и не стал тратить своего драгоценного времени на переговоры.
Дюла не успел ответить ни да, ни нет. У него было такое чувство, будто господин Пери сунул ему под нос его родной город, покинутый дом почти так же, как господин Бранкович — чашечку кофе. В тринадцать лет он поклялся, что не вернется в Надьвашархей, пока не умрет отец. Временами его начинало безумно тянуть домой, к матушке, но обида и оскорбленная гордость всегда перетягивали тоску по дому. Из матушкиных писем он знал, что отец не желает о нем слышать и раз и навсегда запретил ей думать о встрече. Поэтому чем сильнее тянуло Дюлу в Надьвашархей, тем безжалостнее давил он в себе это чувство. Однако на этот раз возможность попасть домой была не плодом мечтаний, а реальностью, представшей в виде предложения делового человека. Мысль эта захватила Дюлу. Все, что казалось давно похороненным на дне души, внезапно ожило, вырвалось на поверхность, девять прошедших лет взяли за горло, призывая к ответу. В последнее время печальное матушкино лицо стало как-то стираться, исчезать из памяти, а тут вдруг встало перед глазами со всей отчетливостью, как будто скрипучий голос господина Пери содрал кору времени. Сколько же она выстрадала за эти девять лет! В письмах она никогда не жаловалась, больше того, иногда ему казалось, что постоянное смирение и покорность судьбе со временем превратились в некое подобие счастья. О Дюлином отце она никогда не писала ни слова, словно его и не было на свете. Не жаловалась даже на то, что лишена возможности видеть сына. Дюлой она постоянно гордилась. Сперва — тем, что его взяли в театр столяром, потом тем, что он дослужился до хориста, и, наконец, тем, что он стал студентом театрального института.
Совесть начала грызть Дюлу с той самой минуты, когда шумный господин Пери оставил его наедине с самим собой. Приглашение в Надьвашархей было ударом ниже пояса, оно разом положило конец ставшему привычкой равнодушию. Дюле страстно захотелось обнять матушку, которую он не видел с детства, с которой ему теперь предстояло встретиться совсем уже взрослым человеком. Взволнованный до предела, вскочил он со стула, на ходу пробормотав слова благодарности старшему официанту, дядюшке Кальману, и нырнул в теплый апрельский вечер.
Погода стояла удивительная. Дюла расстегнул пиджак и отправился бродить по городу. Домой идти он не мог. Ему чудилось, будто следом за ним бесшумно бродит Тордаи и тоже обвиняет его в неблагодарности. А может, он и вправду неблагодарный? Может, он никого и не любил по-настоящему? Даже Хермуша, господина Шулека, дядюшку Али? Даже Тордаи? Даже матушку? Он не смел ответить себе на этот вопрос. Как утопающий за соломинку, уцепился он за мысль об отце. Да, как ни странно, именно это — единственная твердая опора в его жизни. Он ненавидел отца. Эта ненависть была стержнем его души, все прочие чувства были производными от нее.
Незаметно для самого себя он оказался в Городском парке. Там было довольно пустынно. Временами где-нибудь поблизости раздавались шаги полицейского или красногвардейца, проходили, оживленно беседуя, рабочие. Наверху, в ветвях, шумели, охотясь за жуками, дрозды. Дюла брел по аллее, перебирая в уме многочисленные свидетельства своей безответственности, и никак не мог успокоиться. Призвав самого себя к ответу, он вспомнил, что за последнее время написал приемным родителям самое большее десять писем, хотя раньше недели не проходило, чтобы он не отправил в Сегед подробнейшего отчета о своем существовании. Потом он подумал о своих отношениях с Тордаи. Можно ли назвать его поведение неблагодарностью? Тордаи он был обязан тем, что для него сделали исключение, приняли в институт с четырьмя классами, простили пропущенное полугодие. Благодаря Тордаи он пользовался разными льготами, и все кому не лень пророчили ему большое будущее. И на все это у него был один невысказанный ответ: ладно, может, я и стану большим актером. Пускай так, вытерплю и это. Призвание? Ну как же, очень красивое слово.
В конце концов он пришел к убеждению, что был безжалостен по отношению ко всем, и к матушке тоже. А может, даже и к Аннушке — ведь в то декабрьское утро она дала ему понять робким жестом, что не хочет с ним расставаться, а он предпочел не замечать этого порыва.
Его охватила усталость. Он присел отдохнуть на скамью возле замка Вайдахуняд и постепенно успокоился. Глупости все это. А если и нет — разве он виноват, что он такой, какой есть? Жизнь движется по некоему заведенному порядку. Человеку не остается ничего иного, как его поддерживать. Задумчиво вглядываясь в темноту, он окончательно решил прийти завтра утром к кассам Восточного вокзала. Мягкий апрельский ветерок погладил несчастного одинокого юношу по щеке, словно ласковая материнская рука, и усталый студент незаметно задремал в том самом уголке Городского парка, где накануне пели и плясали городские рабочие, празднуя первые свободные выборы.
В Надьвашархей прибыли к полудню. Повсюду висели огромные афиши из оберточной бумаги. Пестрые строки возглашали:
КОНЦЕРТ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
УЧАСТВУЮТ ЗНАМЕНИТЫЕ СТОЛИЧНЫЕ АКТЕРЫ!
СЕГОДНЯ В ЧЕТЫРЕ, В ЛЕТНЕМ ТЕАТРЕ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
В импровизированную труппу вошли актеры из самых разных театров. Ехали в третьем классе и вели себя шумно, даже для актеров. Спорили о революции, о пролетарской власти. Актрисы помоложе напевали новые марши. Кто-то всю дорогу бренчал на гитаре мелодии из «Риголетто». Знаменитый оперный певец Менделени и старый актер Театра комедии Гонда едва не сцепились, поспорив о том, кто такой пролетарий.
— Пролетарий — это рабочий, — трубным голосом провозглашал Менделени. Вот актер, к примеру, не рабочий. А кочегар в пароходной топке — рабочий. Он потеет, надрывается с утра до ночи, в кожу въедается угольная пыль. А я сижу себе на палубе и курю сигару. Значит, я не рабочий. Это он дышит угольной пылью, на его долю выпадает адская жара, а я прохлаждаюсь на морском ветерке. Рабочий — это тот, кто ест ячневую крупу и хлеб с отрубями. Тот, кто живет в подвале. Вот он-то и есть рабочий. Он-то и есть пролетарий. А я — не пролетарий. И врач — не пролетарий, и учитель — не пролетарий. Умственного труда не бывает. А тот, кто с этим спорит, либо попросту врет, либо примазывается к пролетарской диктатуре.
Гонда в ответ заорал на весь вагон, словно выступая на митинге:
— Учтите: все мы — пролетарии! Актер, врач, профессор, священник — все пролетарии. Даже не пролетарии, а рабочие! Директор банка, помещик — это другое дело, это не пролетарии. Или фабрикант, к примеру. А вот торговец — опять-таки пролетарий. И мы, актеры, такие же пролетарии, как тот кочегар, нам тоже дай бог как достается. Только наши рожи уродует не угольная пыль, а грим да краска.
Этот спор, едва не кончившийся потасовкой, какое-то время занимал Дюлу, заставив ненадолго забыть о предстоящей встрече. Пестрые реплики, похожие на надувные мячи, отвлекли его от главного вопроса: что будет, если он встретится с отцом лицом к лицу?
Он ломал над этим голову всю дорогу и в конце концов решил не обращать на отца внимания. Если он окажется дома, Дюла возьмет матушку за руку и уведет в театральный сад, там они проговорят до самого спектакля. Потом она пойдет с ним вместе в театр — пусть послушает, как он читает стихи. После окончания они встретятся снова и не расстанутся до самого его отъезда. Если же отец попробует воспротивиться — что ж, придется применить силу. Будь что будет. При мысли о том, что может произойти, если отец осмелится поднять на него руку, у Дюлы помутилось в голове. Отец виделся ему диким зверем, хищником. Опасным зверем, которого сегодня следовало во что бы то ни стало укротить. Да, всего лишь укротить, но так, чтобы урока хватило ему на всю жизнь, чтоб он узнал наконец чувство стыда. С такими мыслями шел Дюла по обсаженной акациями улице Петефи к дому № 26. У зеленой калитки он остановился, положив руку на узкий засов.
Калитка была заперта. Дюла подергал шнурок звонка. Проржавевший жестяной колокольчик тявкнул два-три раза, словно старый пес, странный звук разнесся по саду и замер в полуденной тишине. Дюла вцепился обеими руками в калитку, пытаясь уловить, что происходит внутри. Секунду спустя скрипнуло крыльцо, потом зашуршали камешки на дорожке. Кто-то шел к калитке. Шаги были мелкие и робкие, не составляло труда догадаться, кто это. Камешки зашуршали сильнее — матушка торопилась. Потом звякнул замок, повернулся ключ — совсем как десять лет тому назад. Зеленая калитка распахнулась, и Дюла увидел маленькую бледную женщину, жену Гезы Торша, которой только что минуло тридцать девять и которая выглядела на все пятьдесят. Дюла был потрясен. Ровесницы его матери, которых он ежедневно встречал в театре, были красивы, моложавы, пользовались успехом у мужчин. А тут… Весь вид этой маленькой старушки наводил на мысли о псалмах и молитвах. Она предстала перед Дюлой как образ бесцветной, безмолвной печали, однако это длилось всего лишь мгновение. Лицо ее внезапно залил румянец, на высоком, чистом лбу забилась синенькая жилка, из глаз исчезла усталость, сменившись радостью узнавания. Она не вскрикнула, не произнесла ни слова, лишь робко улыбнулась и упала к сыну в объятия.