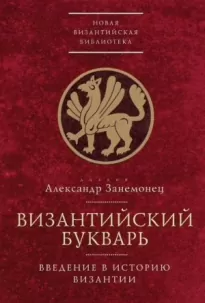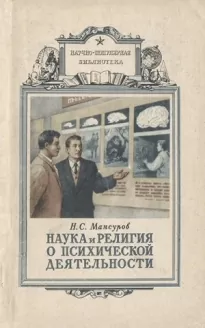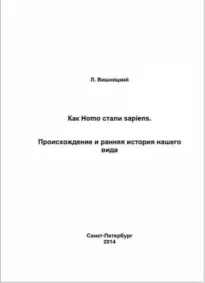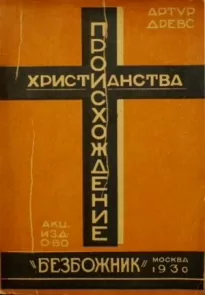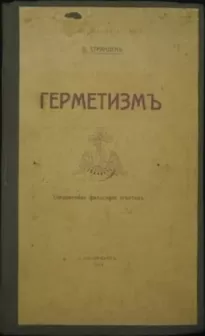Христианство, его происхождение и сущность
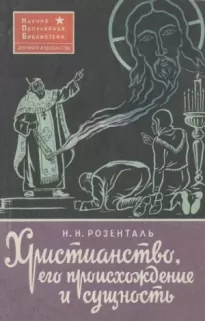
- Автор: Николай Розенталь
- Жанр: Социология / Религия и духовность: прочее
- Дата выхода: 1960
Читать книгу "Христианство, его происхождение и сущность"
Материальным могуществом и руководящей общественной ролью западноевропейского духовного сословия объясняется также запрещение священнослужителям вступать в брак и заводить семью. Этой мерой, с одной стороны, устранялась возможность отчуждения церковных имуществ, находившихся в управлении духовенства, путем передачи их по наследству, а с другой стороны, повышалась профессиональная дисциплина членов сословия, освобождавшихся от обусловленных браком семейных забот и обязанностей. Принудительное безбрачие (по-латыни целибат) сперва долго не соблюдалось отдельными служителями западной церкви и было окончательно установлено только в XI веке. Разумеется, церковное руководство скрывало действительные мотивы введения целибата и ссылалось на необходимость для духовенства соблюдать строгую моральную чистоту, подобающую будущим обитателям царства небесного; между прочим, термин «целибат» произошел от латинского слова «целум» — небо.
На христианском Востоке личная жизнь церковнослужителей подвергалась менее строгой регулировке. Основная масса духовенства, за исключением „монашества и высших членов сословия, имеет право вступать в брак, хотя и не больше одного раза. Женатое духовенство восточной церкви обычно называется «белым» в отличие от безбрачного, или «черного».
Так, мало-помалу определились важнейшие догматические и организационные особенности восточного и западного направлений в христианстве. Но их формальный разрыв был обусловлен не столько идейными причинами, сколько борьбой за сферы влияния и доходы. Разрыв этот подготовлялся в течение долгого времени и неоднократно казался близким к осуществлению. Наконец, в IX веке отношения между римскими папами и византийскими императорами чрезвычайно резко обострились. В 800 году, воспользовавшись внутренними смутами на Востоке, папа Лев III отказался подчиняться константинопольскому правительству и официально признал императором своего союзника, франкского короля Карла Великого. За политическим конфликтом, естественно, последовал и религиозный. Римские папы стали оспаривать притязания константинопольских патриархов на церковное руководство в недавно обращенной в христианство Болгарии. Как Рим, так и Константинополь были и в моральном, и в материальном отношении заинтересованы в том, чтобы подчинить эту новую христианскую страну своей непосредственной архипастырской опеке. Папа Николай I (858–867) и бывший в те же самые годы константинопольским патриархом Фотий всячески стремились привлечь болгар к себе и взаимно опорочить друг друга. Фотий упрекал «западников» в отступлении от старинных основ христианской веры, а Николай презрительно называл своего соперника ставленником императора, а не бога. Наконец, в 867 году оба высших христианских иерарха, созвав соответствующие соборы, торжественно предали один другого проклятию.
В дошедшем до нас послании константинопольского патриарха к подведомственным ему руководителям восточного духовенства прямо заявляется, что «разделение церквей» было вызвано главным образом папскими происками среди вновь обращенных болгар. «Этот народ, — пишет патриарх Фотий, — еще и двух лет не исповедовал правой христианской веры, как люди нечестивые и достойные отвращения… люди, вышедшие из мрака, ибо они порождение западной страны… эти люди, как гром, землетрясение, обильный град, или, точнее сказать, как дикий вепрь, вторглись в народ новопризванный и утвержденный в благочестии и опустошили виноградник господень, возлюбленный и новонасажденный, истребляя его и ногами и зубами — стезями нечестивой жизни и искажением — они и на это отважились! — догматов». Дальше следует перечень важнейших догматических и обрядовых нововведений, укоренившихся на Западе[27].
Однако быстрый распад государства Карла Великого и его преемников, угроза со стороны арабов, опустошавших южные области Италии, а также временное укрепление могущества Византийской империи заставили пап вновь пойти на соглашение с восточной церковью. Официальное единство христианства окончательно исчезло только в XI веке, после нового религиозного разрыва Рима с Константинополем в 1054 году.
Каждая из разделившихся христианских церквей, разумеется, считала себя истинной, а другую — впавшей в раскол (по-гречески схизма), если не в прямую «ересь». Каждая полагала себя вправе называться и православной, т. е. ортодоксально-христианской, и католической, т. е. мировой, вселенской, если не фактически, то, во всяком случае, в перспективе. Однако название «католическая» преимущественно закрепилось за западной церковью, так как в эпоху разделения она господствовала в подавляющем большинстве европейских стран и в 1099 году завладела на некоторое время Иерусалимом, а в 1204 году даже Константинополем, хотя тоже ненадолго. Восточная церковь не знала такой бурной экспансии, но зато она не вводила у себя тех религиозных новшеств, которые начиная с V века принимались на Западе, и поэтому, чтобы подчеркнуть свою верность древним христианским традициям, стала по преимуществу называть себя православной.
Поскольку в Западной Европе письменность первоначально везде велась на латинском языке, а в Византийской империи официальное хождение имел греческий язык, постольку западнохристианская, или католическая, церковь получила также название латинской, а восточнохристианская, или православная, — греческой.
В XI веке католический мир во главе с римским папством под лицемерным предлогом «освобождения» Иерусалима, где якобы находился «гроб господень», предпринял захватническую войну против ближневосточных стран. Папа Урбан II (1088–1099) раздавал свидетельства об отпущении грехов (индульгенции) всем, кто уходил в так называемый «крестовый поход». Напротив, для православной, Византийской империи тогда наступал последний период существования. Турки отняли у нее Малую Азию и начинали угрожать европейским владениям Византии. Но гибель Византийской империи не повлекла за собой гибели православия. Центр восточного христианства переместился в славянские государства — Болгарию, Сербию и особенно в Россию, где уже в XV веке Москва сделалась признанной религиозной преемницей Константинополя.
Основное различие в исторической судьбе православия и католицизма со времени их взаимного обособления определилось тем, что первое большей частью являлось покорным слугой светской государственной власти, тогда как второй обладал в значительной степени независимой, самоуправлявшейся церковной организацией. Католическая церковь, как крепко сплетенная паутина, опутывала все страны, находившиеся под ее духовным господством, и деспотически руководила всей их умственной жизнью.
Школьное и даже университетское образование в Западной Европе вплоть до наступления капиталистической эры целиком находилось в ведении духовенства. Латинское слово «клерикус» (клирик) стало служить одновременно для обозначения духовного лица и вообще всякого грамотного человека. Все члены католического духовенства, как и все люди, учившиеся в школах средневекового Запада, понимали друг друга, потому что основным общеобразовательным предметом обучения являлся тогда латинский язык, на котором долго писались почти все книги и могло совершаться церковное богослужение. Поэтому в глазах темных, невежественных масс духовные липа, умеющие говорить на книжном языке и произносить на нем молитвы богу и святым, были обладателями каких-то сокровенных, таинственных знаний и располагали сверхъестественным могуществом. Католическое духовенство с выгодой для себя использовало свой престиж и ревниво охраняло захваченное им монопольное положение в умственной жизни общества. Оно подвергало злобным преследованиям всех тех, кто, не будучи клириком, пользовался в народе репутацией знающего, сведущего человека — знахаря, ведуна. В таких людях духовенство видело своих опасных соперников и ожесточенно обвиняло их в сношениях с «нечистой силой» — дьяволом. С большим подозрением церковь относилась также к истерическим женщинам, не поддававшимся воздействию местных духовных пастырей. Этих несчастных больных женщин объявляли ведьмами и взваливали на них ответственность за происходившие там, где они жили, стихийные бедствия — засуху, неурожай и т. п. Обвинительные процессы против «ведьм» рассматривались на церковных соборах, как, например, в Париже в 829 году, и служили материалом для некоторых папских посланий (булл).
Православное духовенство в отличие от католического должно было довольствоваться более скромной общественной ролью. Ни в Византийской империи, ни в царской России оно никогда не стояло выше светской государственной власти и даже не являлось первым сословием, но занимало второе место после дворянства. Православная церковь не могла противопоставлять себя государству и претендовать на положение международной, космополитической организации. Поэтому она не имела и своего специфического универсального языка, каким на католйческом Западе стал латинский язык. Служители православной церкви в каждой стране должны были говорить и писать на языке, понятном людям этой страны. Указанное обстоятельство, безусловно, имело положительное значение для развития духовной культуры. В Киевской Руси уже в XI веке были созданы такие выдающиеся литературные произведения на разговорном языке, как, например, «Повесть временных лет», подобных которым в то время не появилось нигде в Западной Европе. Даже виднейшим авторам раннесредневекового Запада, в том числе известным летописцам— Григорию Турскому, Бэде, Эйнгарду, Нитарду, Гвиберту Ножанскому и другим, — приходилось писать исключительно по-латыни.
Но при всем различии в политическом положении католической и православной церквей они обе, разумеется, имели одинаковую социальную сущность, и поэтому обе по мере сил одинаково служили интересам господствующего класса. Только католическая церковь большей частью действовала при этом от своего собственного имени, тогда как православная обычно выступала в качестве духовного орудия государства. Но поскольку и в России, и в других странах, где господствовала православная религия, руководство умственной жизнью эпохи феодализма, особенно на его ранних стадиях, целиком принадлежало духовенству, постольку и здесь именно духовенство несет на себе полную ответственность как за преследование самостоятельно мысливших людей, так и за борьбу со всякого рода иноверцами. Не случайно, что, когда правительство царя Ивана IV приговорило к смертной казни холопа Никиту, который пытался полететь на сделанных им деревянных крыльях, оно мотивировало свой приговор чисто религиозными соображениями: «Человек не птица, крыльев не имат. Аше же приставит себе крылья деревянны, против естества творит. То не божье дело, а от нечистой силы. За сие дружество с нечистой силой отрубить выдумщику голову». Как видим, православная церковь, подобно католической, приписывала смелые, творческие мысли внушению дьявола! Преследованиям духовенства подвергся и знаменитый русский первопечатник Иван Федоров, которому пришлось в 1565 году покинуть Москву, так как в печатании книг была усмотрена «ересь».