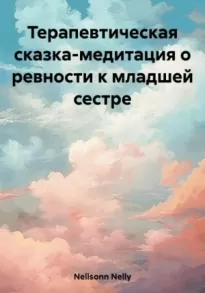Хорея
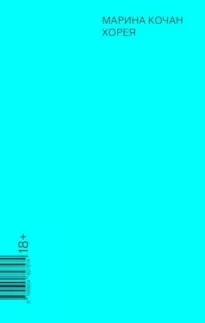
- Автор: Марина Кочан
- Жанр: Современная проза
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Хорея"
Папа ненавидел, когда мама выпивала, когда задерживалась с подругами на работе. Он моментально выходил из себя. Теперь, зная о его болезни, я могу хоть немного оправдать эти зверские атаки, ведь сильная немотивированная агрессия — один из ранних симптомов. Или не могу? Каждый раз, когда он поднимал на нее руку, я молилась, чтобы он умер и все закончилось. И я молилась каждый раз, чтобы она не лезла к нему с претензиями, со своими речами о смысле жизни, с дурацкими вопросами, которые и меня бесили.
Он бил ее в лесу за домом. Я долго еще замирала по ночам, если слышала чей-то крик за окном.
Папа душил ее подушкой в гостиной. Бархатные чехлы, сшитые ее руками, темные, как венозная кровь. Маму расстраивало, что к ним всегда прилипает мусор и кошачья шерсть. Я не любила эти чехлы. Мои пальцы неприятно шершавились от прикосновения к ним.
Когда мне было двенадцать, я ушла ночевать к подруге, а вернувшись домой наутро, застала маму в моей комнате возле зеркала. Она замазывала тональником желтые и коричневые пятна на теле, растекшиеся лужи боли. Я ненавидела их обоих. Ее — за провокации, за алкоголь, за то, что, когда она выпивала, не могла удержать языка. Его — за то, что он слишком сильный.
На Восьмое марта он повалил ее на кухне на пол, лицом вниз, и сел на нее сверху. Он накинул ей на шею фартук и стал затягивать его все сильнее. И тогда она притворилась мертвой, чтобы выжить. Я была в Питере, мама рассказала мне об этом по телефону.
Когда мне исполнилось тринадцать, мама решила, что пришло время говорить и со мной о том, что ее волновало. Она заходила ко мне без стука.
— Ради чего ты живешь? Ради кого? — вопрошала она, опираясь одной рукой на комод, пока я скрывалась за раскрытой книгой или целиком пряталась под одеяло. Это был вопрос риторический, отвечала она всегда за меня.
— Я думала, что научила вас с Олесей этим вещам. Я думала, что передала вам самоеважное. — Мама печально качала головой. — Но ты выросла эгоисткой.
Мама любила красивые метафоры и цитаты из разных мультфильмов и книг. Чаще, чем другие, она вспоминала лиса из «Маленького принца» и «Чертенка номер тринадцать». Концепции этих историй казались ей похожими. Ты в ответе за тех, кого приручил, любить нужно окружающих, а не себя. А то превратишься в тех самых чертей из мультика.
— «Как это ты себя не любишь, нужно любить себя, чтоб все крутилось вокруг тебя». Так мне говорила моя мама. — Она кивала головой. — Но я не научилась. Не научилась ради себя жить. Живу только ради вас.
Потом начинала плакать.
— «Поплачь-поплачь, меньше писять будешь», да, так она мне всегда говорила. Моя мама. Запомни, слезы — это жалость к самому себе.
Я запомнила. Мне всегда казалось, что плакать — это неискренне. Эгоистично.
— Люби… всех. — Тут мама всегда делала долгую театральную паузу между двумя словами. Второе она произносила с каким-то сиплым свистом, словно это были последние слова в ее жизни, завещание мне.
Я старалась любить ее изо всех сил. Я пекла торты ей на день рождения, всегда вовремя приходила домой, всегда занимала ее сторону, когда они ругались с отцом. Но ей всегда не хватало. Я не могла стать матерью своей маме. И не могла прогнать черную тоску, вытрясти ее. Став взрослой, я почти перестала касаться тела матери.
Мама уволилась с работы во время ковидного карантина. Работа — последнее, что держало ее на плаву. «Если она уволится, то совсем перестанет выходить из дома», — обсуждали мы с сестрой в переписке.
Всю жизнь она проработала в одном месте и в одном коллективе старшим научным сотрудником, писала статьи и диссертации, ездила на конференции, публиковалась в зарубежных журналах. Но ни работа, ни признание, ни бесконечные приглашения выступить не смогли вытянуть ее, когда разрушилась семья.
Когда умер сначала папа, а через восемь месяцев и бабушка, она начала говорить об увольнении в каждой нашей беседе.
— Вот уйду и буду писать картины, печь торты. Стану наконец-то заниматься тем, на что не хватало времени. Нет, ну как ты думаешь, уволиться мне или нет? — задавала она каждый раз один и тот же вопрос.
— Мам, я не знаю, ты должна сама принять решение. Никто лучше тебя не знает, как поступить, — отвечала я.
Спустя шесть лет она все же решилась.
— Они еще попросят меня вернуться, поймут, как я нужна. Но мне-то это не надо, — сказала она, тяжело дыша в трубку.
Я вдруг на расстоянии почувствовала запах выпитого ею коньяка.
Теперь она наконец-то могла отоспаться после бессонных ночей. Потом раскачивалась до середины дня, иногда красилась, чтобы выйти до ближайшего магазина или банка, но чаще снова ложилась: болтала по телефону, пересылала видео и картинки в ватсапе, смотрела сериалы. Теперь ей не нужно было, хромая на обе ноги, ковылять до автобуса, присаживаясь на каждой скамейке. Она закрылась дома, и болезни быстро стали множиться, цепляясь друг за друга. Они захватили ее тело. Сердце, одышка, диабет, суставы, колени, голова, маленькие незаживающие ранки на руках и спине. Большие твердые шишки на запястьях и возле щиколоток. Синяки под глазами. Отеки.
Она впервые стала хозяйкой своего времени. Без детей, без двух инвалидов — папы и бабушки, — за которыми нужен был ежедневный уход. Ей принадлежало все свободное время, которое она ничем не занимала. Грусть жила внутри нее всегда, но теперь заполнила ее целиком, выбралась наружу и не давала сдвинуться с места.
Сава разбудил меня в семь утра. В квартире было тихо, телевизор молчал. Значит, мама все же смогла уснуть. Я прокралась на кухню с Савой на руках и занялась поиском какой-нибудь крупы, чтобы сварить кашу. Кухня маминой прежней квартиры, той, где она прожила тридцать лет, была в три раза больше этой. Мама никак не могла подстроиться под новые габариты и под свое одиночество, продолжала покупать продукты в таких масштабах, словно завтра на нас обрушится тотальный дефицит. Упаковки громоздились друг на друга, прижимались картонными и целлофановыми боками: засыхающий зефир, прошлогодние конфеты, старый хлеб, коробка с рассыпающимися специями. Я взяла молоко из холодильника и не смогла найти ему место, когда ставила обратно. Я вспомнила, что раньше мама приносила его в пластиковых полторашках из-под лимонада. Молоко давали на работе. Молоко подопытных коров, один раз мама показала мне их. В бока им ставили канюли — это когда у коровы в боку дыра, в нее можно засунуть руку. Мама долго работала с коровами и оленями. А потом сменила профиль и перешла на людей, стала физиологом.
Мама стала часто перекусывать в комнате перед телевизором, и днем и ночью, прямо как когда-то отец. Усталость тела, усталость от жизни — это есть и спать в одном месте. А может, мама просто наконец освободилась от социальных норм и разрешила себе есть там, где хочется. Пусть крошки останутся в кровати и на полу. В ее «келье», как она называла спальню, жили блюдечки с остатками чипсов под пиво и фисташками. Мама теперь любила все маленькое и хрустящее. Она почти перестала готовить, потому что привыкла готовить только для других, привыкла, что кто-то может оценить ее суп, ее мясо в соусе, ее торт «Прага» и маленькие, размером с детскую ладошку, эклеры.
— О, а вы уже проснулись.
Я слышу, как мама медленно идет на кухню. Я знаю — в руках у нее пустая чашка из-под воды. По ночам она много пьет — кажется, это первая стадия диабета. Она постоянно жует маленький кусочек резины (чтобы рот смачивался слюной), отрезая ее от хозяйственных перчаток. Резина скрипит на зубах, звук такой, словно кто-то зимой пробирается по сугробам. Я слышу этот звук издалека, он уже стал привычным. В пустой принесенной чашке она сейчас заварит растворимый кофе с лимоном.
— Будешь кашу? — спрашиваю я, заранее зная ответ. Утром мама съедает только маленький бутерброд: черный хлеб, сыр и масло.
— Ты же знаешь, я почти не ем, — говорит она, зевая. — Но ночью вот жарила себе маленькие хачапури. Они у меня получились просто… — Она прикладывает ко рту пальцы, сложенные щепотью, и причмокивает. — Все равно ведь мне не спится. Вот и завтракаю ночью. Что приготовить вам на обед?
— Мы бы не отказались от твоего борща. Сава обожает борщ, это его самый любимый суп.
— О, борщ, правильное решение, — кивает мама. — Тогда сходи в магазин за свеклой. У меня осталась одна, уже скукожилась.
Много лет, в каждый мой приезд, наши разговоры вращаются вокруг еды. Как на плохом свидании. Все другие темы остаются словно за очерченным нами кругом. Еда — это то, о чем можно вести беседы бесконечно.
Я размышляю о еде как о маркере человеческого состояния. Когда я приехала домой после четвертого курса, мама встретила меня с поезда одна.
— Поешь чего-нибудь. Ты, наверное, голодная с дороги. Там, в холодильнике, есть салат, — сказала она устало, когда мы вошли в квартиру, и отправилась к себе в комнату.
Я нашла магазинный салат в пластиковом круглом контейнере. Это был первый раз, когдамама не приготовила ужин к моему приезду.
Папа не сразу вышел из гостиной. На нем была черная вязаная шапка, плотно облегающая голову. Он сильно похудел. Втянулся, стал незаметным его всегда круглый, массивный живот. Мы неловко обнялись. Его кисти повисли за моей спиной.
— Ты чего в шапке? — спросила я. — Дома же тепло. И сейчас лето.
— Не знаю, просто так. Удобнее.
— Дуркует он потому что, — сказала мама раздраженно, возвращаясь на кухню.
Отец двинулся в ее сторону, подволакивая одну ногу, словно та онемела. Замахал на маму руками.
— Иди. Иди к себе — нечего тут шастать, — она указала рукой в сторону гостиной и освободила ему дорогу.
Под словом «дуркует», как оказалось, скрывалась не только шапка. Папа стал прикладывать к окнам странные записки. Я нашла одну, прислоненную на кухне к стеклу, надписью наружу: «Уходите».
Папе казалось, что за ним следят. Он подолгу зависал возле окна, высматривая что-то. Он просил их оставить его, пока еще мог держать ручку в руках.
— Видишь? — спрашивал он у меня, подходя к окну. — Они снова тут.
— Кто «они», пап?
— Вон. В черном.
Но во дворе никого не было.
Мама и бабушка боялись отца. Костлявый и худой, шатающийся и обезумевший, он все еще имел силу в руках и теле. И все еще мог ударить.
Он называл теперь бабушку сумасшедшей старухой. А та кричала ему в ответ, что он идиот и дурак. Когда они встречались в коридоре, отец гнал ее назад, в комнату, не давая пройти. Мама называла их «мои инвалиды». Объединяла в одно, мрачное и тяжелое. Кроме нее, некому было тянуть этот груз.
За четыре месяца до смерти папа разбил бабушке голову чашкой, пока мама была на работе. Она вернулась домой и увидела брызги крови на обоях в коридоре. Папу увезли в психиатрическую клинику, но уже через месяц он вернулся домой.
— Я теперь вообще не могу оставить их одних, — говорила мне мама по телефону.
— Мам, я приеду на каникулы, и мы что-то решим, хорошо? Мы что-нибудь придумаем. Не знаю, что могу сделать, пока я в другом городе.
Летом перед смертью отца в квартире нечем было дышать. Входя с улицы, можно было словно пощупать плотный воздух, в котором смешались пот и грязь двух тел, бабушки и папы, запахи нестираного белья, запахи лежалого и кислого, мочи и кала. Бабушка уже не вставала сама, папа еще ходил по квартире, но уже не мог ходить в унитаз, не мог сам перешагнуть бортик ванной.