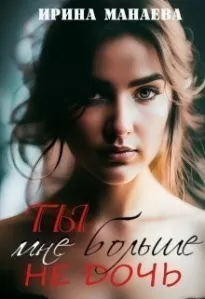Как было — не будет

- Автор: Римма Коваленко
- Жанр: Современная проза
- Дата выхода: 1978
Читать книгу "Как было — не будет"
— Не знаю, — отвечает Генка, — не думал об этом. Во всяком случае, жил бы получше, чем сейчас.
— Как получше?
— Отстань, — сердится Генка.
Серафима сидит на лавочке у ворот. Первая протягивает Генке руку. Знакомится. Пропускает его вперед, а мне понимающе улыбается: привела. От гостей она отвыкла, на лице беспокойство, снует по кухне, вызывает меня в сени.
— Может, сбегать?
— Куда?
— Ну, это… за маленькой.
— Обойдется. Не суетись. Чайник поставь и не беспокойся.
Разговор не получается. Генка разглядывает комнату, и я тоже разглядываю, как мне кажется, его глазами. Уютный мещанский дом: ковер на стене, комод, вязаные салфетки.
— Этот дом — целая история, — шепчу я Генке, — в нем жила ее старинная подруга. Перед смертью составила завещание и отписала все, что у нее было, Серафиме.
Генка пожимает плечами: бывает же такое. Серафима накрывает на стол, ворчит на меня, что не предупредила о госте, извиняется перед Генкой. Извиняется зря: на сковороде горка блинов, в блюдечке конфеты — ждала меня.
— Вот это моя Серафима, — говорю я Генке, когда мы трое усаживаемся за столом, — очень вредный и мудрый человек.
— То ли похвалила, то ли обругала, — смущается Серафима, а сама зорко поглядывает на Генку.
— Это у нее такой стиль, — объясняет Генка, — стиль кнута и пряника, чтоб любили и боялись.
Серафиме это не нравится. Генка безуспешно пытается обрести в ней союзника.
— Ешьте, — говорит она ему, — на работе, поди, наговорились друг про друга, а тут ешьте.
Потом мы рассматриваем альбом с фотографиями, я показываю Генке свои детские карточки. Серафима оставляет нас одних, моет на кухне посуду. Генка смотрит на часы, и меня охватывает досада: зачем я его сюда притащила? Досадую на Серафиму: не понравился ей Генка. Я провожаю его за ворота, сажусь на лавочку и смотрю ему вслед: темнота сразу проглотила его высокую тощую фигуру, сейчас за поворотом он спустится в овраг, вздрогнет от воя бездомной собаки и навеки проклянет меня. Никогда больше не будет разглядывать мое лицо, курить и думать обо мне, глядя в окно.
— Ты все испортила, Серафима, — говорю я, возвращаясь в дом, — другой бы специально старался, а так испортить бы не смог.
— Что-то я тебя сегодня не узнаю, — как ни в чем не бывало отвечает Серафима, — не пойму, по какой причине ты места себе не находишь.
— Могла бы и понять, если бы захотела.
— А нечего понимать, — она стоит посреди комнаты, руки в бока и глядит на меня нахальным, лихим глазом, — чего понимать, когда понимать нечего?
Вот тебе и раз: подбоченилась, сделала свое черное дело и радуется.
— Мне сколько лет? — спрашиваю я ее. — Мне, может, замуж пора?
— Может, и пора, только не за этого.
— Скажи, пожалуйста, «не за этого»! За кого же?
— За того, кого любить будешь.
— А этого не люблю?
— В том-то и дело.
— А если никого не полюблю?
— Полюбишь. Помнишь, писала тебе одна — полюбила женатика. Смотри в такую яму не угоди. Писать кому будешь, совет просить?
— Серафима, Генка там идет по темным улицам. Жалко его.
— А он и сам себя жалеет. Больше не пойдет.
У меня в сумке лежит письмо, но нет сил говорить о нем. Завтра скажу и о письме, и о командировке.
— «Здравствуйте, товарищи из редакции! Я очень долго думала перед тем, как написать письмо. Наконец решилась. Очень мне тяжело его писать, но надо. Надо перешагнуть ложную сентиментальность и сделать решительный шаг. Прошу не считать мое письмо жалобой. Я не жалуюсь, я обвиняю. Обвиняю свою мать. Не подумайте, что она преступница или плохого поведения, все очень наоборот. И обо мне не спешите слагать плохое мнение, дочитайте письмо до конца.
Мать моя — знаменитая женщина, у нее два ордена и несколько медалей ВДНХ. Чуть ли не каждый месяц ее вызывают в область на разные конференции, пленумы и т. д. О ней писали в газетах, и в вашей перед съездом колхозников был ее портрет.
Вот такой у нее внешний вид перед людьми…»
Серафима сидит на диване, подавшись вперед, щурит глаза и слушает.
— Ты вникай как следует, — говорю я ей, — это письмо особенное. Это письмо — моя судьба. Мне надо нырнуть на такую глубину, чтобы все ахнули.
Серафима нетерпеливо машет рукой: читай, читай…
— «…А на самом деле она совсем не такая. Главная цель ее жизни — деньги. Рубль к рублю — накопить побольше. Я случайно нашла сберегательную книжку, и у меня сделалось нервное потрясение. Две тысячи восемьсот рублей (новыми)! Когда другие дети в пионерском возрасте отдыхали в лагерях, ездили на экскурсии по городам нашей страны, она незаконно включала меня в свое звено, я работала наравне с другими, но ничего за это не получала. По ее примеру и другие члены звена незаконно использовали труд своих детей. От этого у них росли нормы выработки, и звено добивалось рекордов.
Тогда я подумала, что она так делает потому, что жить нам трудно (отца у меня нет, он бросил ее и уехал, когда мне было два года), но теперь понимаю, что на это натолкнула ее жадность. Слезы застилают мне глаза, когда я вспомню, как в седьмом классе умоляла ее купить мне сапоги. Они тогда только появились в сельпо, и всем девочкам купили. У нее же был один ответ: «Летом заработаешь и купишь».
Когда я нашла книжку, у нас с ней произошел скандал. Я ей все в глаза высказала, пообещала, что выведу ее перед людьми на чистую воду. Она, конечно, разозлилась страшно и, вместо того чтобы по-матерински вникнуть в мои переживания, выгнала меня из дома и сказала, чтобы я шла на все четыре стороны. Я ночевала в сарае. Хотела повеситься, может быть, так и сделаю в дальнейшем.
Помирились мы не окончательно. Она кинула мне в лицо книжку и сказала, что я могу брать все деньги и подавиться ими. Я ей ответила, что пусть она театр не устраивает: во-первых, мне их никто не выдаст, во-вторых, это ее деньги, а не мои, просто мне обидно, что она из-за жадности потеряла даже материнский инстинкт, напомнила ей, что до 18 лет родители обязаны не только кормить, но и одевать детей.
Уважаемые товарищи из редакции, не подумайте, что я какая-нибудь модница или несознательная. Когда было трудно и бедно, я ничего не требовала. Но если есть столько денег, почему же надо отказывать себе и своей дочери во всем? Этого я не понимаю. Мы боремся с пережитками прошлого. Жадность — это самый жуткий пережиток. И я хочу с ним бороться, но не знаю как.
Учусь я в девятом классе. Учусь средне, на три и четыре. Летом работаю в ученической бригаде.
С комсомольские приветом.
Раиса».
Я отрываюсь от письма и вижу, что Серафима уже не сидит, а лежит на диване.
— Ты что легла?
— В поясницу стрельнуло. — Она лежит на спине, смотрит в потолок, и я не вижу выражения ее лица.
— Что же ты скажешь об этой Раисе?
— Мне что говорить. Не мне она писала, не мне о ней говорить.
— А все-таки.
— Сама ты о ней что думаешь?
Мнение о Раисе у меня готово, и я его охотно выкладываю:
— Во-первых, она дура. В том смысле, что не очень развитый человек. Во-вторых, эгоистка. Это тоже у нее производное от духовной бедности. И в-третьих, иждивенка. Из той породы захребетников, которым весь мир всю жизнь что-то должен.
Серафима кряхтит, поднимается, глядит на меня туманными глазами, что-то говорит, но я не слышу, губы шевелятся беззвучно. Я не сразу соображаю, что ей плохо, и бросаюсь к ней, когда она уже лежит на полу. Хотела подняться, качнулась и съехала с дивана.
— Симбуля! — кричу я вдруг забытое имя, которым называла ее в детстве. — Симбулечка, что с тобой?
Серафима открывает глаза и шевелит губами. Я бросаюсь на кухню, там, в шкафчике, в верхнем ящике, — лекарства. Панический страх охватывает меня, руки трясутся. Я выдвигаю ящик, несу его в комнату, ставлю на пол возле Серафимы.
— Это? — Серафима качает головой: нет. Я достаю следующую бутылочку: — Это?
Наконец она кивает утвердительно — это. Я капаю лекарство в ложку, Серафима не может его проглотить, я снова капаю и чувствую, как по шее у меня ползут слезы.
У кого-нибудь есть здесь на окраине телефон? Я поднимаю Серафиму, она тяжелая, безжизненная, укладываю ее на диване. Страх понемногу отпускает меня, надо быстро и точно что-то предпринимать. Пишу на листке адрес, фамилию Серафимы и выскакиваю за ворота.
— Очень прошу вас, — останавливаю молодую женщину, — вызовите из автомата или откуда-нибудь «скорую помощь» по этому адресу.
Женщина берет записку, не читая сует в карман, и я уже сомневаюсь, позвонит ли.
— Очень вас прошу, — говорю я ей, — умоляю вас: не забудьте.
— Ну что вы на самом деле, — недовольно отвечает она, — неужели не позвоню!
Она уходит, а я возвращаюсь в дом. Тихонько прикрываю двери, на цыпочках вхожу в комнату.
— Придвинь стул и сядь тут, — говорит Серафима.
Я беру стул, подношу его к дивану, сажусь и начинаю рыдать.
— Ты не обращай на меня внимания, Серафима. Это я так. Очень перепугалась.
— Хорошая ты моя, — говорит Серафима, и я от этих слов пуще заливаюсь слезами, — головушка ты моя светлая, молоденькая.
— Лежи спокойно, Серафима, — я вытираю лицо и, как давно уже со мной не бывало, всхлипываю глубоко и протяжно, — тебе нельзя разговаривать. Молчи.
— И смеяться, и плакать умеешь, — Серафима не слушается меня, — а та не умеет.
— Какая «та»?
— Раиса.
— Не надо про нее, Серафима. Ты поправишься, я поеду туда, напишу статью, все будет правильно. А ты про эту Раису сейчас не думай.
— Я про нее не думаю. Я про мать, — Серафима закрывает глаза, слабый голос доносится будто издалека, — ты про мать ни слова не пиши, ты про нее подумай хорошенько. Как она на земле все выращивала. Земля, она человека всего берет от темна до темна. Вот и заросло дитя сорняками. Самый свой главный плод не вырастила…
— Молчи, Серафима, а глаза открой.
— Не бойся, — на Серафимином лице появляется подобие улыбки, — я не умру. Я еще на твоей свадьбе погуляю.
Через час за воротами просигналила машина. Приехала врач, немолодая усталая женщина. Глянула с порога на лежащую Серафиму и хриплым мужским голосом приказала:
— Вскипятите воду.
Она долго осматривала ее, не отвечая на мои вопросы, недовольно морщилась, когда я пыталась вызвать ее на разговор.
— Доктор, у нее очень крепкий организм, она никогда не болела.
Она опять глянула на меня, как на назойливую муху, поднялась, стала укладывать свои инструменты.
— Будем госпитализировать. Захватите паспорт.
Я не решилась спросить — чей паспорт, взяла два, свой и Серафимы.
Мы втроем с шофером внесли носилки в машину.
Всю дорогу я держала Серафимину руку, мучилась от тишины и, наконец, не выдержала:
— Доктор, вы ведь были на фронте?
Она не сразу ответила, вгляделась в меня, словно пыталась что-то вспомнить.
— Была. А с чего это вам пришло в голову?
— Голос у вас такой, и еще это слово «госпитализировать».
Мне хотелось сказать ей, что Серафима тоже в прошлом героический человек, была в партизанах, имеет боевой орден, но не смогла: Серафима лежала с закрытыми глазами, ее нельзя было волновать.
В приемном покое была очередь. Носилки с Серафимой положили на высокий столик с колесами, ее лицо оказалось вровень с моим.