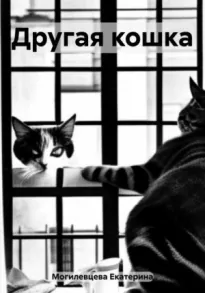Музей заброшенных секретов
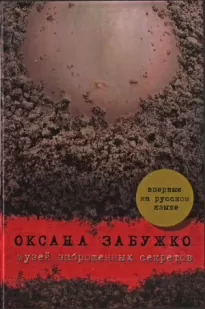
- Автор: Оксана Забужко
- Жанр: Современная проза
- Дата выхода: 2013
Читать книгу "Музей заброшенных секретов"
Постепенно я приходила к мысли, что человеческая жизнь — это не столько, или по крайней мере НЕ ТОЛЬКО, та эпически приглаженная «стори» с несколькими персонажами (родители, дети, возлюбленные, друзья-соратники, кто там еще?..), которую удается в более-менее цельном виде донести до потомков, — такой она выглядит разве что на расстоянии, с обратной стороны бинокля, как мы приучены смотреть и на свою собственную жизнь, все время наводя на нее уменьшающие линзы многочисленных CV[4], резюме, автобиографий, кухонных исповедей и мифов домашнего изготовления, неустанно подравнивая ее в соответствии с принятым форматом, — если же попытаться взглянуть на нее изнутри, во всей ее полноте, то она предстанет как огромный, безразмерный чемодан, доверху набитый как раз этими совершенно бессмысленными для посторонних безделицами, — чемодан, который, покидая этот мир, человек навсегда забирает с собой. По дороге, правда, из него, не застегнутого, высыпается еще горсть-другая хлама на память живым (что перед смертью кто-то просил грушевого узвара, каким изящным балетным па подступалась к собеседнику маленькая женщина, словно подкрадывалась снизу для прыжка в высоту…) — и остается надолго перетлевать в памяти свидетелей и хранителей, и каждый раз, столкнувшись с подобной откатившейся погремушкой, я испытывала смутную глухую вину из-за собственной беспомощности — так, будто именно в этом случайно уцелевшем осколке мог скрываться ключ, утерянный тайный код к каким-то глубинным, подземным смыслам чужой жизни, и вот этот ключ оказался у меня в руках, а я не знаю даже, к какому замку он подходит — и, что еще хуже, существует ли такой замок вообще…
Это не от телевидения ко мне пришло, не от людей и сюжетов, которые случалось снимать, — а в тот день, когда я, листая по какой-то надобности старую, с выжелтевшими, на горчичники похожими страницами (советская газетная бумага!) книженцию из отцовской библиотеки, с разгона наткнулась на пометку на полях, сделанную отцовской рукой, его характерным, колючим и плотным, как живая изгородь из терновника, почерком (классе в седьмом-восьмом и мой почерк начинал смахивать на такой же, но вскоре присмирел, выровнялся и стал больше похож на мамин): напротив совсем на вид безобидной, дурацкой даже фразы — «гамлетовская неспособность к решительным действиям при виде торжествующего зла» (а язык-то, язык, прости Господи! — еще не высвободившийся из-под завалов сталинского погрома, еще весь с переломанными-вывихнутыми косточками…), — эта фраза была подчеркнута решительной, почти прямой линией, — а напротив нее, на полях, стояло такое же «торжествующее»-«ВОТ!!!», с тремя восклицательными знаками, — поразившее меня, как настоящее откровение. В этот момент я поняла, что, собственно, не знаю своего отца: он умер, кода мне едва исполнилось семнадцать, и я запомнила его только таким, каким он был в отношении ко мне, ребенку и подростку, — и из этих воспоминаний, лишь слегка дополненных посмертными, скупыми (и с годами окаменевающими, ведь новых не прибавляется!) свидетельствами — мамы, друзей, коллег, студентов отца (которые, кажется, по нему с ума сходили — если не врут), постепенно сконструировала в своем сознании некий виртуальный персонаж — с внешностью папы в его сорокапятилетнем, уже больничном, возрасте и достаточно мрачной житейской «стори» — из тех, что не так уж и редко встречались у людей его поколения. Однако тот мужчина, да нет, молодой человек (я быстренько подсчитала: моложе, чем я сейчас!), который когда-то давно, Когда-Меня-Еще-Не-Было-На-Свете (не зря ведь первая реакция ребенка на этот мифологический оборотик — «а где же я был?..»), в один из дней конца пятидесятых или начала шестидесятых с таким энтузиазмом черканул на полях книжки свое «вот!!!» — в точнехонько таком же порыве, как это сделала бы я, увидев сформулированной кем-то свою родную мысль — ту, которую давно вынашиваешь, которой терзаешься и мучаешься, да просто живешь! — тот молодой человек был абсолютно вне моего виртуального персонажа, так, будто они и знакомы не были друг с другом, или, точнее, я не была знакома с этим вторым, новым. Внутренне он все-таки чем-то неуловимо напоминал меня, и я прекрасно видела (изнутри, как мы наблюдаем самих себя во сне) — как у него в голове в ту минуту победно вспыхнуло: «вот!!!» — словно щелкнул пальцами, большим и средним, подобно тому как это делаю я в минуты душевного подъема, — и я вспомнила, что у него-таки была когда-то, в незапамятные времена, привычка щелкать пальцами! — и как мама сердилась и говорила, что это вульгарно и дурной пример для ребенка, и как он при этом смущался — и это тоже было внове, потому что мне раньше не вспоминалось, чтобы он когда-нибудь смущался, со мной всегда держался очень уверенно, кажется, ни разу не слышала я от него «не знаю» или «я ошибся», — ой нет, и это было, и тут я снова вспомнила, новой волной: однажды в школьном альбоме для рисования я обнаружила нарисованного мною накануне вечером зайчика неумело выкрашенным — да просто замазюканным! — в голубой цвет и подняла визг — и папа пристыжено признался, ну точно как застуканный с поличным мальчишка, что он хотел сделать зайчика сереньким, но немного переборщил с краской… Я тогда кипела праведным гневом, у меня в голове не укладывалось, зачем он полез в мой альбом, да еще и с красками, он же сроду не рисовал, кисточку — и ту правильно держать не умел, я потом долго ему еще этого зайчика припоминала, словно получила над ним перевес в одно очко, а он каждый раз так же смущался — и только сейчас я по-новому, тоже изнутри, увидела его выходку, и что он стыдился совсем не того, что испортил мне рисунок (за который я, неизлечимая отличница, все-таки получила свою пятерку!), а того, что не сдержал чисто детский порыв, внезапную вспышку любопытства — поглазеть, как распускается краска в баночке с водой, как она набирается на кисточку и покрывает собой белые прогалины на бумаге, — и вот на этой минутной слабости, вовсе не присталой взрослому мужчине и отцу семейства, он и попался, — и так все это стремительно разматывалось и разматывалось во мне одно за другим, словно, ухватившись за хвостик одного чернильного росчерка на полях, как за конец нити, я потянула наверх всю грибницу, мохнатое сплетение корешков, за которым смутно просвечивала совсем другая, неизвестная мне жизнь отца, безотносительная к дочери, жене или друзьям, — однако представить себе эту жизнь вблизи, в полном ее формате, у меня не было никакой возможности: свой чемодан он забрал с собой.
Помню, я тогда залезла с ногами в кресло и проглотила чуть ли не всю книжку зараз не зарегистрированным доселе в истории письменности методом чтения — не слева направо и не справа налево, а вкруговую: выедая куски текста, как гусеница, концентрическими кругами, расходящимися от подчеркнутой фразы: «гамлетовская неспособность к решительным действиям при виде торжествующего зла». Никакого иного ключа под рукой просто не было — ни одной мелочи не выпало больше из выхваченного когда-то у меня из-под носа чемодана, которая за двадцать лет, прошедших после смерти отца, не превратилась бы в прах, — и я все медитировала и медитировала над этой оброненной пометкой на полях «вот!!!» — точно детектив Коломбо над каким-нибудь «неправильно» надгрызенным мундштуком, найденным неподалеку от трупа, только я искала не убийцу — я хотела оживить труп. Совершенно не помню, о чем была сама книжка, однако под конец этого некромантского сеанса я была твердо убеждена: вся многолетняя отцовская так называемая «борьба с системой» (словосочетание, введенное в оборот после 1991 года), — его отчаянные попытки достучаться в дубовые двери высоких кабинетов, бесчисленные письма, заявления, жалобы, докладные записки — в Киевгорсовет, в Генпрокуратуру, в ЦК украинский, в ЦК московский (три или четыре распухшие папки у мамы на антресолях, с-тесемками-завязанными-мертвым-узлом), его поездки в Москву (каждая из которых должна была стать окончательной и решающей, но всегда отцовский запрос спускался обратно, «на Киев», и все возвращалось на круги своя…) — вся эта отчаянная, равновеликая жизни маета, в результате которой он оказался в психушке с довольно распространенным в те времена «политическим» диагнозом — «сутяжно-параноидальная психопатия», — происходила не от чего иного, как от того, что в глубине души мой отец всегда знал за собой, будто тайную постыдную болезнь, вот эту самую, черт бы ее побрал, «гамлетовскую-неспособность-к-решительным-действиям-при-виде-торжествующего-зла», — она-то и подтолкнула его — когда зло проехалось полновластным тараном почти впритык, — вместо того чтоб отстраниться, — ринуться наперерез и потом снова и снова бросаться под колеса той же самой махины, с каждым разом отвоевывая у себя самого право на самоуважение…
Я и сейчас в этом уверена.
Косноязычная, неловко сформулированная фраза неожиданно обернулась водяным знаком, внутренним эпиграфом к его жизни — впрочем, такой же увечной, если пытаться представить ее в виде короткометражной «стори»: тихое угасание с подавленным сознанием — вероятнее всего, на фоне нечеловеческой боли во всех мышцах от гремучих инсулиновых доз, которыми (как стало известно позже) особенно щедро закармливала своих клиентов советская полицейская психиатрия; кричаще-василькового цвета халат, который я запомнила, когда мы с мамой приезжали в Днепродзержинск на разрешенное, наконец, свидание, и из-под халата — исхудавшие, желтые, с выпирающими пятками мосластые ноги, похожие на куриные лапы, торчащие из авоськи, — все это, вместе с затхлым сладковатым запахом то ли мочи, то ли немытого тела и заторможенным помутневшим взглядом (глазные яблоки без капли блеска, увядшие, как у старика: следствие обезвоживания), — во всем этом нет ни малейшего потенциала для героико-романтической «стори», особенно если учесть, что такое состояние продолжалось годами, а это уж и вовсе незрелищно, такие вещи просто проглатываются титрами «прошло пять лет», в чьем-то другом случае — «прошло двадцать пять лет», и кто же согласится столько высидеть перед экраном?! (А другого способа снять подобную «стори» так, чтобы до зрителя действительно дошло, нет — ну, тогда значит, и «стори» нет, и идите себе с Богом, скажет вам любой редактор…) В том-то и дело: в отцовских буднях, показанных со стороны, — не только тех, больничных, но и добольничных тоже, — имею в виду, конечно, не его научно-преподавательскую карьеру, а то, что ее похоронило, а затем похоронило и его самого, — во всех этих разосланных потоках писем и напрасно обивавшихся порогах кабинетов, в этой абсурдной и изнурительной войне, проигранной заранее, еще до ее начала, потому что однажды сдвинувшаяся с места система не могла и не собиралась сдавать назад, а он ведь продолжал настаивать на своем и годами доказывал чуть ли не тем же людям, которые и отдавали приказы, как они неправы, — во всем сюжете его жизни, если представить теперь этот сюжет со всей документальной достоверностью, во всех четырех папках с тесемками, не было смысла — была только горечь из-за тщетности затраченных усилий. Смысл был в эпиграфе. В водяном знаке. В одном подчеркивании, которое случайно сохранилось.