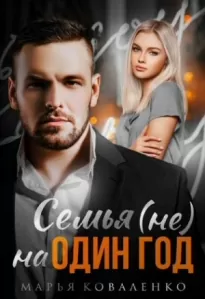Слова без музыки. Воспоминания

- Автор: Филип Гласс
- Жанр: Биографии и Мемуары / Кино / Музыкальная литература: прочее
- Дата выхода: 2021
Читать книгу "Слова без музыки. Воспоминания"
Для Кокто место действия имеет особое значение, конкретно связанное с творчеством. В трех сочиненных мной операх место, где происходит творческий процесс, — один из центральных элементов. В «Красавице и Чудовище» творческий процесс разворачивается в замке. В «Орфее» это гараж, где стоит автомобиль Орфея, где сам Орфей слушает по радио сообщения из иного мира. В третьей части трилогии — «Ужасных детях» (сценарий этого фильма написал Кокто по своему одноименному роману 1929 года, но режиссером стал Жан-Пьер Мельвиль) — местом творчества служит «Комната», где разыгрываются почти все события фильма.
При работе над третьей частью трилогии — «Ужасными детьми», впервые поставленными в 1996-м, я снова изменил подход к переработке фильма. Если «Орфей» — это романтическая комедия, а «Красавица» — аллегорическая история о любви, то «Дети» — бесспорно, эпическая трагедия, в финале которой гибнут главные герои — брат и сестра, Поль и Элизабет. В фильме жизнь Поля и Элизабет показана с момента, когда Поль выздоравливает после травмы, а Элизабет выхаживает его в их общей спальне. Именно здесь, в «Комнате», они придумывают «Игру», в которой побеждает тот, кто оставляет за собой последнее слово, доводя противника до бессильного бешенства. После того как их больная мать умирает, подросшие Поль и Элизабет переселяются в особняк, унаследованный Элизабет от умершего мужа, и воссоздают там «Комнату». Теперь «Игра» приобретает намного более серьезный характер, в нее втягиваются еще двое молодых людей — Агата и Жерар. Любовь, ревность и обман в отношениях этих двух пар, родившихся под несчастливой звездой, в финале фильма влекут за собой смерть Элизабет и Поля.
При переработке фильма в оперу я вознамерился дополнить всю эту смесь хореографией. Хореография — единственная форма театрального искусства, которая пока не была задействована в этой трилогии, но именно с ней я имел самый непосредственный опыт взаимодействия. Я пригласил хореографа и балерину Сьюзен Маршалл: предложил ей стать режиссером и хореографом оперы по совместительству, привлечь для постановки ее хореографическую труппу. Мне также требовались четыре певца, которые исполняли бы партии «двух пар» героев. Изначально в фильме звучал Концерт для четырех клавесинов Баха, и я решил сохранить основную музыкальную фактуру — тоже написать произведение для нескольких клавишных инструментов, а именно задействовать три рояля в качестве ансамбля.
Сьюзен и я несколько месяцев вели подготовительную работу: планировали, как вокальный квартет и ее труппа из восьми молодых мужчин и женщин превратят, средствами музыки и хореографии, фильм в спектакль. По крайней мере, мы примерно прикинули, как разделить произведение на сцены, разработали общий замысел постановки.
Как я уже сказал, в «Детях» почти все действие разворачивается в «Комнате». Именно здесь герои играют в «Игру», которая откровенно превращается в концепцию «мир есть искусство» и целиком подменяет собой обычный мир. Закадровый голос в фильме (голос самого Кокто) совершенно внятно разъясняет, что мы должны воспринимать Элизабет и Поля не просто как близнецов, но, по сути, как две стороны одного человека. И вот полное погружение в «Игру» влечет за собой то, что не становится неожиданностью, а, наоборот, кажется вполне узнаваемым: в этом узком мирке, который является общим словно бы только для героев, одержимость художника предстает как нарциссизм в самой острой форме.
Кокто учит нас: те, кто стремится к преображению, колоссально рискуют, когда направляют свои усилия на себя самих. В «Ужасных детях» такое взаимодействие с обычным миром может быть опасным и необратимым, хотя художник все равно должен рисковать всем в этой игре во внутреннее и внешнее преображение — должен рисковать и рискует. Творчество — главнейшая тема произведений Кокто. Он горячо жаждал преображать обычный мир, обрести бессмертие благодаря своим произведениям. Он заключил сделку: отказался от буржуазной жизни, чтобы вести жизнь художника.
Эти две реальности, альтернативные друг дружке, — обычный мир и мир, который художник либо творит сам, либо использует как основу для творчества, — вынуждают его жить на эти два мира, в промежуточном положении. Например, поэты: они вынуждены использовать язык житейских банальностей, язык повседневности. Таково одно из занятных свойств поэзии: ее «валюта» — это самый обыденный язык. Поэты — самые настоящие алхимики, превращающие свинец в золото, и именно это главным образом делает поэзию высоким искусством.
Другое дело — живописцы, танцоры, музыканты, композиторы и скульпторы: они живут в двух разных мирах. В моем случае это обычный мир и мир музыки, и я нахожусь в обоих мирах одновременно. В «другом» — творческом — мире мы используем особые языки: язык музыки, язык движения, язык изображения, которые могут существовать автономно. Мы живем в этих разных мирах и порой даже не замечаем связующих звеньев.
Когда композитора спрашивают: «Это верная нота или нет?» либо живописца или хореографа спрашивают: «Вы хотели этим сказать то-то и то-то?» — творческий человек пытается мысленно вернуться в момент творчества, чтобы найти ответ. Возможно, творческий человек вам ответит: «Я смогу вам ответить, если мне удастся припомнить, что именно я сделал».
У меня (да и почти у всех людей на свете) есть одна загвоздка: чтобы написать музыкальное произведение (или что угодно) так, как надо, — чтобы оно было абстрактным, но бередило душу, — художник должен изобрести новые стратегии мировосприятия, а в моем случае хотя бы четко расслышать то, что я, кажется, умею слышать. Этот процесс может содержать массу подвохов: «Что я слышу — трезвучие? Что я слышу — тритон? Что я слышу — квинту?» Чтобы понять, что ты слышишь, требуется экстраординарное внимание. Другими словами, художник должен напрячь свой обычный слух или обычное зрение, научиться видеть как никогда хорошо, далеко и зорко. Итак, теперь мы переходим от обычного восприятия к экстраординарному, которое творец обретает, когда пишет свое произведение. Обычно ради этого мы целиком сосредотачиваемся на работе.
Тяжелоатлеты — те, кто поднимает пятисотфунтовые штанги, иногда стоят перед штангой тридцать секунд, минуту, полторы минуты. И, только войдя в правильное состояние сознания, тяжелоатлет выполняет толчок — отрывает штангу от помоста и выжимает ее над головой. Он в силах это сделать, потому что сменяет свое обычное, повседневное внимание на экстраординарную сосредоточенность, без которой столь невероятные свершения невозможны.
Чтобы совершить это, нужно принести жертву: об этом Кокто говорит в «Орфее» устами Смерти/Принцессы. Собственно, нужно с чем-то расстаться. И расстаемся мы с последней соломинкой, за которую цепляемся, — с той функцией внимания, которую мы применяем при самонаблюдении.
В обычном мире мы практически постоянно видим себя: идем по улице, смотримся в зеркало, а в вагоне метро смотрим на свое отражение в стекле. Иначе говоря, это деятельность, которой мы предаемся более или менее постоянно. Эта функция самонаблюдения — одна из разновидностей внимания. Вообразите, что шахтер, которого завалило в шахте, пытается выбраться. Он готов на все, лишь бы преодолеть преграду. Точно так же, дабы преодолеть временное чувство бессилия, дабы осмыслить абстракцию и вместить ее в наше сознание, нам остается пожертвовать последним аспектом внимания — способностью к самонаблюдению.
Я это потому знаю, что мне зачастую трудно припомнить, о чем я размышлял, когда писал ту или иную пьесу. И что же я делаю? Беру свои наброски и нумерую, словно архивист или почти как антрополог, чтобы я мог заглянуть в собственное прошлое и докопаться, о чем я размышлял.
Правда, эти заметки обеспечивают меня «вещественными доказательствами» мысли, но не восстанавливают саму мысль. Иногда кто-то из музыкантов говорит мне: «Тут ля или ля-бемоль?» — а я отвечаю: «Не знаю».
— Как вы можете этого не знать? Вы это написали.
Что ж, в том-то и дело. Я-то написал, но меня при этом не было. Очевидец, наблюдавший за моей жизнью в тот момент, куда-то запропал. Очевидцу пришлось ретироваться, потому что все мои ресурсы внимания затрачивались на визуализацию музыки. Полагаю, в такие моменты мое самосознание выключается; сознание превращается в составную часть внимания, и эти дополнительные мощности помогают мне работать дальше.
— Но что вы чувствовали, когда писали «Сатьяграху»? — спросит кто-нибудь.
— Не знаю.
— Но вы же при этом присутствовали, разве нет?
— Вы в этом уверены, а?
Я-то не уверен, что присутствовал при этом моменте. Филип-художник отнял у Филипа-обывателя способность наблюдать за самим собой. Очевидно, именно так бывает, когда человек говорит: «Я написал это во сне» или «Не знаю, откуда взялась эта музыка». Люди чего только ни говорят: «Наверно, это продиктовал мне Господь» или «Наверно, оно всплыло из прошлой жизни», и тому подобное. В сущности, человек просто хочет сказать: «Я не помню, как создал это», и, возможно, придумывает какой-то внешний источник произведения. Но на деле источник совершенно другой. Это процесс, которому творческий человек научился. Творец сам себя перехитрил, чтобы разжиться дополнительными ресурсами внимания, которые понадобились ему для работы.
Жил-был замечательный наставник Кришнамурти, родившийся в Индии в 1895 году. Его идеи не были мне особенно близки, но одна мне очень понравилась. Кришнамурти дожил до 1986 года, читал лекции по всему свету и написал много книг, в том числе «Первая и последняя свобода». Он всегда говорил, что настоящий момент — это и есть момент творчества. Он пытался втолковать тебе: если ты поймешь, что возможности для творчества открываются перед тобой в любой миг, этот опыт принесет тебе подлинное просветление. Я так никогда и не понял эту мысль до конца, но чувствовал, что идея мощнейшая. Насколько я могу судить, Кришнамурти имел в виду спонтанные ощущения от жизни. Он не был моим наставником — я просто однажды был на его лекции и прочел несколько его книг, но он говорил интересные вещи о том, как жизнь развертывается спонтанно. В жизни нет ничего рутинного, в жизни ничто не повторяется: она все время нова.
Когда ты живешь на два мира, именно опора на другой, необыденный мир приводит тебя в мир четкого понимания и могущества. Но процесс припоминания идет негладко: стоит мне вернуться в «мир очевидца своей жизни», мне частенько нелегко вспомнить свои сочинения. Не уверен, что припоминаю произведения без ошибок, так как для припоминания я использую одни инструменты, а для написания произведений — другие. Мир очевидца не так могущественен, как мир композитора, потому что функция очевидца отнимает у тебя творческие способности, которые нужны, чтобы раскрыть тему.
Когда я пишу музыку начерно, я что-то слышу, но точно не знаю, что именно. При написании музыки много сил уходит на то, чтобы что-то расслышать. Я всегда спрашиваю себя: «Я точно слышу вот это?» За свою жизнь я слышал столько музыки, что теперь без труда ее припоминаю. Я могу вспомнить Девятую симфонию Бетховена, концерты Баха и Вивальди — все они у меня под рукой. Они содержатся не только в моей памяти, но и в книгах, на аудионосителях. Я могу послушать их когда вздумается. Но когда я пишу, моя новорожденная музыка не обладает таким преимуществом, поскольку раньше ее никогда не существовало. Ни одна пьеса никоим образом не существовала до момента своего создания. Итак, я возвращаюсь к вопросу: «Могу ли я описать то, что услышал?»