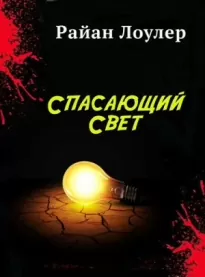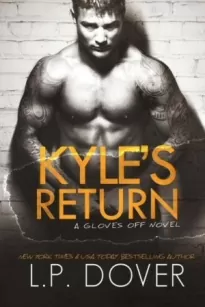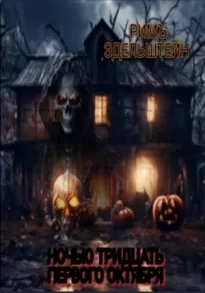Портрет лива в Старой Риге

- Автор: Гунар Приеде
- Жанр: Драматургия
- Дата выхода: 1978
Читать книгу "Портрет лива в Старой Риге"
* * *
Когда дебют в драматургии столь успешен, первая опасность — остаться автором одной пьесы. Вряд ли двадцатисемилетнего Гунара Приеде отличала житейская умудренность или особая мера профессионального предвидения, но этой опасности он избежал. Скорее, просто в силу некоторых свойств характера он не заторопился, что-то в себе и вокруг себя рассчитал. Не одну, а примерно четыре-пять «первых» пьес он написал с завидной равномерностью, по пьесе в год. Будто осознав, что вступает на дорогу, которая не кончается за поворотом, он распределил то, чем владел, и стал отдавать по частям, без стремления поразить обязательным открытием. Открывалась, поворачивалась разными гранями личность автора. Граней оказалось немало, некоторые были неожиданны.
Сейчас, оглядываясь на пройденный путь, можно заметить, что на своей театральной дороге Приеде ни разу не предстал запыхавшимся или внутренне пустым. Его творчество не поражает своими масштабами, но оно всегда содержательно. Никогда Приеде не давал оснований упрекнуть его в том, что ему нечего сказать.
В этом равномерном рабочем движении нет перебоев. Пожалуй, за одним исключением. О нем следует упомянуть, иначе путь художника покажется вовсе тихой идиллией. А если в театре ровность и спокойствие не перебиваются драмой, какой же это театр? Драмой можно назвать четырехлетнюю паузу между «Тринадцатой» и следующей за ней пьесой «Отилия и ее потомки». В этой паузе была написана пьеса, не увидевшая сцены.
Для драматурга это примерно то же, что для актера готовая роль, по каким-то причинам не сыгранная. С ролью, с пьесой ли, но проживается кусок жизни, он забирает нервы, физические и душевные силы и требует обязательного выхода. Драматургия — особый жанр, который живет этим выходом, этой публичностью. В смысле психологии творчества профессия драматурга стоит где-то между литературой и актерским искусством. Невыход к зрителю есть травма, на преодоление которой нужны время и силы. Я говорю это к тому, чтобы подчеркнуть стойкость художника, о котором идет речь.
Промолчав два года, он написал пьесу «Отилия и ее потомки» — веселую и поучительную историю о том, как бабушка, в свое время не совсем удачно воспитавшая дочерей, с гораздо большей мудростью и умением воспитывает довольно трудных внуков. К двадцатилетним внукам старой Отилии присоединяются их приятели, подруги, жены (а где-то за сценой — уже и маленькие дети), так что возникает разнообразный ветвистый семейный клан, конца которому не предвидится. У этой пьесы сложилась счастливая театральная судьба. Она обошла многие театры Прибалтики, а потом легко перешла с профессиональной сцены на подмостки народных театров, которых в Латвии множество. Играть и ставить эту пьесу всем доставляло удовольствие. Она написана на легком дыхании, будто автор и не молчал два года, и не пережил ничего особенного. Он опять негромко посмеивался, беззлобно шутил, не забывал про мораль, но и не навязывал ее, так что никто не чувствовал себя обиженным или больно задетым.
Но, как уже говорилось, подобные идиллии в театре кратковременны. Ненадолго Приеде успокоил тех, кто хотел видеть в нем исключительно лирика, мастера сценических акварелей и милых психологических нюансов. Следующей же пьесой он сам нарушил только что обретенный покой.
Могло показаться, что «Костер внизу у станции» написал кто-то другой. Изменилась техника письма. Будто на акварельном рисунке провели резкие, сильные штрихи углем.
Неожиданной была главная ситуация: в жизнь станционного поселка вносит смуту цыганский табор, дождливой осенью застрявший в этих краях далеко от родной Молдавии.
Собственно, ни табора, ни цыган на сцене нет. Нет и поселка. Перед нами — один дом и четыре его обитателя. Муж, жена, старик отец, школьник-сын. Еще есть подружка сына. Обычный дом, устоявшийся, налаженный быт. Сад, огород, веранда с уютным светом; дети ходят в школу, родители — на работу. Кажется, все мирно и устойчиво. Однако сама эта устойчивость явно не мила автору. Он в нее не верит, не видит внутри нее гарантий прочности. Никаких разрушительных событий в пьесе не происходит — ни у кого ничего не похитили, не сломали и не украли. Муж не ушел вместе с табором, только рассказал жене то, о чем молчал годы. И жена поняла, что, любя мужа, не знала его; это знание неожиданно явилось испытанием. Люди любили друг друга, но не до конца друг другу верили — вот в чем суть. Случай нарушил эту бессознательную фальшивую договоренность. Никуда не ушли из дома мальчик и девочка, только застыли у дверей веранды, когда на рассвете уходил табор. Чья-то жизнь странная, диковатая, лишь краем, слегка коснулась этого дома, и проблема «своих» и «чужих» вдруг всплыла и потребовала решений.
Уклад, основанный на том, что каждый сторожит свое, раскрыл свою структуру. Сторожит, то есть охраняет от чужих, заведомо считая «чужим» каждого, кто не свой. Для старика это закон жизни, азбука бытия и единственное его содержание. Многоопытный в сражениях за свою собственность, он и тут, никому не говоря ни слова, находит способ избавиться от непрошеных гостей. Мальчик первый раз в жизни видит, как вместо помощи можно совершить предательство. То, что сделал его дед, называется именно этим нехорошим словом, хотя в пьесе никто его не произносит. Что поняли дети во всем происшедшем, мы не знаем. Но они вдруг почувствовали себя на пороге, на выходе из дома — это ясно. Старый дед на первый взгляд одержал победу, чужих погрузили в машины и увезли, огород цел, все в порядке. На самом деле порядок в доме нарушен, и, вероятно, навсегда.
Всю эту картину, весь этот семейно-социальный клубок Приеде разворачивает вопреки собственной обстоятельной манере — нервно, порывисто, иногда короткими толчками, оборванной фразой обозначая моменты потрясений.
А если разобраться, грустная пьеса «Костер внизу у станции» рассказала о том же, о чем в «Отилии» говорилось с мягким юмором, в форме комедии. О прочности родственных связей и об их хрупкости; о корнях «огородной» психологии и ее конечной бесплодности; о том, что дети неизбежно отворачиваются от старших, когда тех поражает духовный склероз. К этим двум пьесам следовало бы добавить еще «На путь китов и чаек» — она примерно о том же. Вообще иногда кажется, что, разъезжая по дорогам родной Латвии, писатель не любуется аккуратными чистенькими домиками, приводящими в умиление всякого гостя Прибалтики. Сам строитель, хозяйственный и аккуратный человек, он с какого-то времени иными глазами стал всматриваться в хозяев этих симпатичных жилищ. Как они тут живут? Чем заплачено за эту клубнику, за всю эту собственность? Почему такой крепкий, такой высокий забор у дома? Что значит телевизионная антенна на крыше — только признак благосостояния или все же связь с миром?
Такую пьесу, как «Отилия и ее потомки», от Гунара Приеде хотели получить — потому и не расслышали в ней скрытую тревогу. «Костер внизу у станции» явился во всех отношениях пьесой неожиданной, ее от Приеде не ожидали и, думаю, до сих пор толком в ней не разобрались. Из трудного для себя момента он, таким образом, вышел победителем. Круг проблем он не сузил, а развил и расширил, от сложных драматических ракурсов не отказался, а подтвердил их необходимость.
Если в веселой пьесе содержался намек на драматизм, то грустную высветляли характеры молодых, замечательные в своей цельности и простоте. Подростки Дидзис и Рудите несли в себе не эгоизм, а открытость миру, всему доброму и человечному в нем. Те же душевные свойства отличали старую Отилию. Только Отилия с самого начала являлась центром, вокруг которого, все больше подчиняясь, вращались остальные. Такое подчинение драматург утверждал как норму, нечто справедливое и естественное. Дидзис и Рудите — не центр, скорее, знак устремления прочь, и в этом устремлении своя правда и справедливость.
Прошло еще два года, и Приеде написал «Голубую» — пьесу, которую можно назвать трагической. Искал ли он специально такого обострения или случайно на него наткнулся, но не отступил.
Вообще в мягком и тихом характере автора с годами стала обозначаться неуступчивость. Критикам было легче с пьесами раннего Приеде, труднее стало теперь.