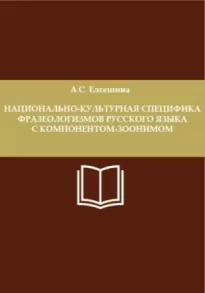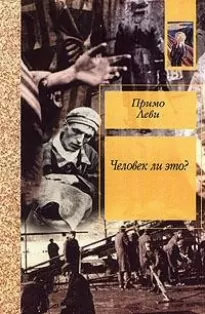Языковые основы русской ментальности

- Автор: Владимир Колесов
- Жанр: Философия / Языкознание / Культурология
- Дата выхода: 2016
Читать книгу "Языковые основы русской ментальности"
1.1. Русская ментальность на фоне западноевропейской
Здесь речь пойдет о некоторых признаках, коренным образом отличающих ментальное поле сознания восточных европейцев от западной ментальности. Чтобы избежать обвинений в какой-либо предвзятости, автор оперирует текстами русских и зарубежных писателей, философов и публицистов, так или иначе касавшихся этой темы.
Национальное своеобразие по отмеченным особенностям научного мышления неоднократно обсуждалось в русской литературе. Вот суждение Герцена (1954: 314): «Немцы привыкли читать в поте лица тяжелые философские трактаты. Когда им попадается в руки книга, от которой не трещит лоб, они думают.., что это пошлость». Даже «французская дерзость не имеет ничего общего с немецкой грубостью», тогда как «англичане — дурные актеры, и это делает им честь», — утверждает писатель. Эмпирическая тайна вещного у англичан иллюстрируется его пищей: «Англичанин ест много и жирно, немец много и скверно, француз немного, но с энтузиазмом; англичанин сильно пьет пиво и все прочее, немец тоже пьет, только пиво да еще пиво за все прочее...» Но самая выразительная черта англичанина — его консерватизм и любовь к политике, тогда как «француз, действительно, во всем противоположен англичанину: англичанин — существо берложное, любящее жить особняком, упрямое и непокорное; француз — стадное, дерзкое, но легко пасущееся. Отсюда два параллельных развития, между которыми Ламанш. Француз постоянно предупреждает, во все мешается, всех воспитывает, всему поучает; англичанин выжидает, вовсе не мешается в чужие дела и был бы готов скорее поучиться, нежели учить, но времени нет — в лавку надо». Всё это — выдержки из «Былого и дум», где сказано и об американцах: «Американцы — более деловые, чем умные; они станут счастливее, но не будут довольны» — каково?!
В Петербурге особенно часто обсуждается германский склад характера.
«Особенность германского мира не в том, что ему чуждо само существо церковной религиозности, а в том, что ее формы остаются для него в значительной степени внешними» (Карсавин 1918: 115). Дух германской расы «повсюду и всегда, что бы его ни занимало, устремляется к частному, особенному, индивидуальному. В противоположность обнимающему взгляду романца взгляд немца есть проницающий», тогда как «пренебрежение к человеческой личности, слабый интерес к совести другого, насильственность к человеку, к племени, к миру есть коренное и неуничтожимое свойство романских рас» (Розанов 1990: 373). Михаил Пришвин понимал дело так: «Немец способен на всевозможное и в этом лучше всех во всем мире. Русский в возможном недалеко ушел, но он как никто в невозможном (“чудо”)» (Пришвин 1986: 559).
Русские люди тем хороши, что — разные, замечал Пришвин, но немцы также «разные». С одной стороны, «и Шлецер, и Бирон с одинаковым презрением к России и почти с одинаковым корыстолюбием с истинно немецкой наглостью» (Коялович 1997: 163). С другой — «на Русь пришли лютеране Даль, Гильфердинг, Саблер... Востоков. И поразительно, что они все не только потеряли “свое немецкое”, придя на Русь, с каковою потерею, естественно потускнели бы. Этого не случилось, а случилось другое: они расцвели, стали ярче, сохранив всю деловитость и упорядоченность форм (немецкое “тело”), но пропитав все это “женственною душою” Востока... В конце концов, оставили и свою религию, приняв нашу восточную, — без стеснения, без понуждения, даже без приманки, сами» (Розанов 1990: 333).
Также и критическое отношение к знанию-пониманию у разных народов облекается в своеобразные формы.
«Француз — догматик или скептик, догматик на положительном полюсе своей мысли и скептик на отрицательном полюсе. Немец — мистик или критицист, мистик на положительном полюсе и критицист на отрицательном. Русский же — апокалиптик или нигилист, апокалиптик на положительном полюсе и нигилист на отрицательном полюсе. Русский случай — самый крайний и самый трудный... Француз и немец могут создавать культуру, ибо культуру можно создавать догматически и скептически, можно создавать ее мистически и критически. Но трудно, очень трудно создавать культуру апокалиптически и нигилистически» (Бердяев 1991: 64). В. С. Соловьев того мнения, что «философский скептицизм направляет свои удары против всякого произвольного авторитета и против всякой мнимой реальности. Философский мистицизм есть лишь чувство внутренней неразрывной связи мыслящего духа с абсолютным началом всякого бытия, сознание существенного тождества между познающим умом и истинным предметом познания. Совсем не таковы те крайние настроения, которые характеризуют наш национальный ум. Русский скептицизм мало похож на здравое сомнение Декарта или Канта, имевших дело с внешнею предметностью и с границами познания; наш скепсис, напротив, подобно древней софистике стремится поразить самую идею достоверности и истины...: «все одинаково возможно, и всё одинаково сомнительно» — вот его простейшая формула», которая гонит русского к тому «абсолютному предмету, которому он над собой признал» (Соловьев 1900, V: 91-92). Страстность русского характера влечет его за пределы «взвешенного среднего», вполне достаточного для познания «внешней предметности»; то, что «поставлено выше себя», заносит ум за пределы пустой «вещности», искушая разум на поиски крайних сил бытия.
Хорошо это или плохо — другой вопрос. Но что верно — никакой материальной выгоды от таких метаний духа русский ум не ищет. Напротив, «английская эксплуатация есть дело материальной выгоды; германизация есть духовное призвание. Англичанин является пред своими жертвами как пират, немец — как педагог, воспитывающий их для высшего образования. Философское превосходство немцев обнаруживается даже в их политическом людоедстве: они направляют свое поглощающее действие не на внешнее достояние народа только, но и на его внутреннюю сущность. Эмпирик англичанин имеет дело с фактами, мыслитель немец — с идеей: один грабит и давит народы, другой уничтожает в них самую народность». Теория видов могла возникнуть только в уме англичанина, как и политическая экономия Адама Смита. У русских «идея культурного призвания» не как «мнимая привилегия, а как действительная обязанность, не как господство, а как служение» (Соловьев 1900, V: 7-8, 39). Сравнивая слово «сам» в различных языках, В. С. Соловьев показал понимание пределов свободы личного действия. Действие всякого животного идет «из самих себя», но это еще не свобода. Волчок тоже вертится сам, но это не значит, что он производит движение. Сам — в смысле один «силою прежнего толчка». Такое значение находим у французского tout seul. В польском языке за словом sam сохраняется отрицательный смысл — «один без других» (samotny — одинокий). Но в русском и германских языках возможны оба смысла, причем если дан положительный (собственная внутренняя причинность), то отрицательный (отсутствие другого) предполагается, но никак не наоборот. Самоучка — сам причина своего образования — и учился один, без помощи. Так и в немецком Selbsterriehung или английском selfhelp. Но если речь о том, что вертел движется сам — selbst, by itself alone, — то слово употреблено в отрицательном смысле (Соловьев 1988, I: 113).
Что вообще преимущественно «народное» у нас? Что — «русскость»? Ответ дает любое событие жизни. Вот «художественные произведения» у нас, и fiction ‘измышление’ на Западе. Для русского важен образ, т. е. преображенный в идею реальный человек, который подчас воспринимается как более реальная личность, чем сосед по дому. Образ в слове столь же реален, как и сама жизнь, и вот вам «одна из особенностей русского народа — нам нужно слово! Нам нужен порыв. Не столько домик с газончиком, сколько порыв и вера в то, что у нас есть будущее» (Моисеев 2000: 408).
«Народное» — не вера (христианство интернационально), а язык, который соединяет веру и жизнь, оправдывая первую и укрепляя вторую. «Ведь в самом деле, если русское — то же, что православное, а православное — то же, что вселенское, то ничего индивидуального, специфического в русской национальной задаче и в русской национальной физиономии быть не может» — это существенное заблуждение славянофилов (Трубецкой 1913: 70). Однако ранние славянофилы коренное народное видели именно в слове, сохранив для нас все классические произведения словесного творчества народа.
Отсутствие русского слова в русском деле славянофилы рассматривали — и, может быть, справедливо — как нарушение гармонии действия: «Этих немецких слов, этих названий, вовсе бессмысленных для русского уха и не представляющих ничего русскому уму, набрались тысячи!» (Хомяков 1988: 354). «Бессмысленных» в звучании, «ничего не представляющих уму» — это то самое отсутствие внутреннего словесного образа, который немедленно при восприятии порождает сеть сопутствующих ассоциаций, помогая справиться с делом, каким бы они ни было. Если вам произнесут кучу «немецких слов» вроде киллер, мэнеджер или ангажированность, вы не сразу поймете, что речь идет о наемном убийце, торговом жулике или журналистской продажности — а потом уж и поздно будет что-нибудь соображать.
Понятно, что силы, враждебные народности, боролись прежде всего с русским словом. Конечно, де Кюстин (1990: 163) мог сказать: «У русских есть лишь названия всего, но ничего нет в действительности... Прочтите этикетки — у них есть цивилизация, общество, литература, театр, искусство, науки, а на самом деле у них нет даже врачей». Чисто французский взгляд на вещи, о котором Герцен заметил: «Неистощимое богатство их длинной цивилизации, колоссальные запасы слов и образов мерцают в их мозгу как фосфоренция моря, не освещая ничего». Накладывая свои слова на чужие предметы и понятия, маркиз не в состоянии оценить другую цивилизацию, понять другое общество, отрицая за ними то, что, именуясь тем же словом, имеет другой смысл. Опасение России — вот что движет неприязнью маркизов, ведь Россия — это «сфинкс, вызывающий опасение. Каждый раз западный европеец снова и снова спрашивает себя: что это за народ? что он может? чего он хочет? чего следует ждать от него? Да и язык этого народа кажется странным и трудным», как трудна и судьба говорящего на нем народа; ведь язык — это «фонетическое, ритмическое и морфологическое выражение народной души» (Ильин 1997: 373). Народное и национальное суть реальность и действительность в сложном их взаимодействии, в пересечении различительных признаков их существования. Идея национальности по времени появления самая поздняя, если судить по изменчивым смыслам слова язык.
Язык объединяет все три ипостаси идеального: веру, народ и государственность. В Средние века язык выражает особенность веры («неведомые языки» — чужая вера), с XVI в. — государственности (перенося признаки с термина «земля»), а после XVII в. уже и народа. Это В. С. Соловьев писал: «Что такое русские — в грамматическом смысле? Имя прилагательное. Ну а к какому же существительному это прилагательное относится?» (Соловьев 1900, II: 696). Имя прилагательное русский, русская относится именно к вере, к земле, к государству, к которым могут принадлежать и «иные народы», а вот к человеку — не относится. Человек, как и все на свете, имеет имя собственное: великорос. Незнание истории и смысла русского слова не извиняет говорящего, тем более — «образованного».