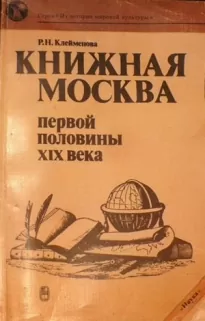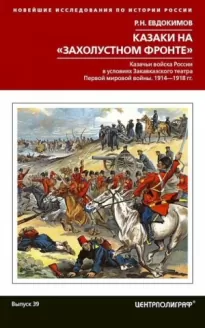Русская народная утопия (генезис и функции социально-утопических легенд)
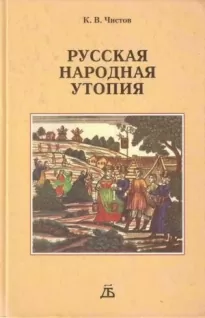
- Автор: Кирилл Чистов
- Жанр: Культурология
- Дата выхода: 2003
Читать книгу "Русская народная утопия (генезис и функции социально-утопических легенд)"
ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ
В одной из своих замечательных книг, в которой сочетается очерк трагедии русской интеллигенции 1920-х—1930-х гг. с многосторонним развенчанием примитивных стереотипов общей оценки хода русской истории и русского менталитета в различных его проявлениях, Д. С. Лихачев пишет: «Народ с трудом терпел произвол государства. Вече сменили собой земские соборы. Существовало законодательство: „Русская правда“, „Судебники“, „Уложение“, защищавшие права и достоинство личности. Разве этого мало? Разве мало нам народного движения на восток в поисках свободы от государства и счастливого Беловодского царства? Ведь и Север, и Сибирь с Аляской были присоединены и освоены не столько государством, сколько народом, крестьянскими семьями, везшими с собой не только хозяйственный скарб, но и ценнейшие русские книги. Разве не свидетельствуют о неискоренимом стремлении к свободе личности постоянные бунты и такие вожди этих бунтов, как Разин, Булавин, Пугачев и многие другие? А северные „гари“, в которых во имя верности своим убеждениям сами себя сжигали сотни и тысячи людей! Какое еще восстание мы можем противопоставить Декабристскому, в котором вожди восстания действовали против своих имущественных, сословных и классовых интересов, но зато во имя социальной и политической справедливости? А деревенские сходы, с которыми постоянно вынуждены считаться власти?»[2]
Характерно, что Д. С. Лихачев, стремясь к разоблачению поверхностного понимания русской истории XVII–XVIII вв., среди прочих ее специфических черт (своеобразные формы средневекового демократизма — крестьянское, казачье и городское, сопротивление ликвидации целого ряда традиций и огромное напряжение в процессе культурного овладения обширнейшей территорией) называет и Беловодскую легенду, которая будет одним из предметов изучения в настоящей книге и основы понимания которой были заложены в монографии 1967 г.
Слово «утопия», как и производные от него «утопический», «утопист» и т. д., давно вошли в русский язык и, казалось бы, не требуют специального разъяснения. И, тем не менее, в известном словаре под редакцией Д. Н. Ушакова различаются значения «утопист» и «утопия», «утопизм». «Утопист» — личность, которая мечтает об улучшении собственной жизни или собственного дела. Как пишет известный польский исследователь теории утопизма Ежи Щацкий, есть принципиальная разница между портным, который возмечтал научиться шить брюки по новому образцу, представляющемуся ему идеальным, и утопистом, который мечтает о преобразовании общества, в котором он хотел бы жить, построенном по социальной модели, которая оценивается если и не идеальной, то, по крайней мере, совершеннее, чем то общество, в котором он живет. И то (пошив брюк по новому образцу), и другое (идеальное общество) может быть несбыточными грезами, однако во втором случае мечта утописта имеет социальный характер.
В своей знаменитой книге, состоящей в русском переводе из двух основных частей — «Утопия» и «Традиция»[3] — Ежи Щацкий выделяет несколько типов утопий: «утопия места», «утопия времени», «утопия вневременного порядка», «утопия ордена» (т. е. утопия определенной социальной группы), «утопия политики». Завершается книга Е. Щацкого критикой утопий разных типов «От антиутопизма к негативной утопии» и «Современные утопии».
Типология утопии, которая предлагается Е. Щацким, основана на знании обширного материала и весьма убедительна. С другой стороны, как всякая обобщающая типология, она не учитывает сложные переплетения типов и их взаимозависимость. Так, в главе «Утопия времени» речь идет и об осуществлении утопии в будущем и о будто бы когда-то состоявшихся решениях сложных проблем в прошлом. В то же время в разряд «утопия времени» попадают и предания о прошлых «золотых веках», которые совершенно забыты нынешними людьми, и «островки», которые не совсем погибли и где-то продолжают существовать.
Подобные «островки» могли быть по традиционному поверию «остатками рая» на земле или достижимым продолжением его (ср. известное письмо Новгородского архиепископа Василия епископу Федору Тверскому, в котором утверждалось, что новгородцы достигали рая, дошли до края земли и увидели рай, но не сумели вернуться, так как увидевши рай, начинали неудержимо смеяться и уходили на гору, которая отделяла рай от остальной земли).[4] Известно, что в традиции ряда народов Европы функционировали предания о монахе (или просто о человеке), который дошел до края земли и сумел заглянуть в дырку, чтобы увидеть хоть кусочек неба, т. е. рая.
В Беловодской легенде, к которой мы обратимся несколько позже, речь идет не об общехристианском представлении о рае, а об удаленной от Руси области, сохранившей древнее благочестие и недоступной Антихристу, во власть которого начала попадать Россия со времен Никона и Алексея Михайловича, чьи реформы порвали со старой православной традицией, культивировавшей древние дониконовские порядки. Начиная с Алексея Михайловича, произошел разрыв со старой восточнохристианской традицией, продолжавшей заветы несторианства и проповеди апостола Фомы. Как мы увидим, в рукописной традиции Беловодской легенды постоянно говорится о патриархе антиохийского поставления и митрополитах, служащих на сирском языке. Эти детали, удивительным образом сохранившиеся в народной памяти, восходят к восточноправославным преданиям, согласно которым именно в Антиохии существовал самый ранний православный патриархат, а церковная служба в районах несторианства и проповеди Фомы сохранялась на сирском языке, одном из древнейших семитских языков.[5] И, как будет показано, древность этих исторических явлений не превратила повествование о Беловодье в предание: оно осталось до XX в. функционировать как легенда, т. е. в существование Беловодья верили, его активно искали, стремились достичь. Продолжали распространяться «Путешественники Марка Топозерского (инока Михаила)», призывающие упорно искать Беловодье, найти его и поселиться в нем.
В основе каждого такого предания или легенды обычно лежит некое ядро, т. е. основное представление, вокруг которого, как спутники, вращаются «слухи и толки» — обычные «дочерние» образования преданий и легенд (реальная форма существования большинства из них). Основная функция преданий и легенд информационная, а не эстетическая. Так, например, если в «основном» рассказе повествуется о том, что в лесу завелся леший или в озере водяной, то человеку местному не станут об этом рассказывать. Ему могут сообщить о новых встречах с этим лешим или водяным (это и есть рассказы, которые мы называем «дочерними»). Они могут быть «меморатами», т. е. рассказами от первого лица, от лица участника события или «фабулатами» — рассказами с чьих-то слов в третьем лице («Когда он пошел в лес…»), которые легко превращаются в «слухи» и «толки», вплетаются в обыденную речь, без четкого выделения (делимитации), вычленяются такие сообщения чисто условно («Говорят…», «Ты слышал…?» и т. п.). Говоря образно, основное ядро (представление) фонтанирует, а его брызги и струи — это и есть «слухи» и «толки», производные от предания или легенды.
Можно выделить два типа устных рассказов несказочного характера — рассказы о прошлом (исторические предания и т. п.) и рассказы о том, что продолжает существовать (например, продолжают верить в существование клада в каком-то лесу, в разбойников или лешего, в где-то скрывающегося «избавителя», в утопическую землю и т. д.). По-русски эти рассказы трудно назвать «преданиями». Они не просто хранят в памяти людей знание о событиях или явлениях, ушедших из живой традиции, а продолжают развивать и наращивать свои дочерние рассказы.
Первая часть предлагаемой читателю книги была задумана одновременно и как фольклористическая работа, и как исследование исторической психологии русского крестьянства, без знания которой необъяснимы многие проблемы истории фольклора. Книга возникла несколько своеобразно. В конце 1950-х гг. я хотел написать монографию о развитии русского фольклора во второй половине XIX в., т. е. в период, когда система русской сельской традиционной культуры была еще достаточно продуктивна и, вместе с тем, уже переживала заметные изменения. Подготовив этюд о северно-русской сказке второй половины XIX в., в которой можно было усмотреть некоторые черты реального быта деревни конца XIX — начала XX вв.,[6] я обратился к некоторым жанрам, стремясь уловить нечто подобное. Одновременно продолжались занятия тем, что можно было бы назвать микроисторией — детальной историей отдельных локальных групп севернорусского крестьянства. К этому меня побуждали разыскания о крупнейшей русской сказительнице XIX в. И. А. Федосовой.[7] Ее основным жанром были причитания, в которых выработанные веками поэтические стереотипы (формулы) причудливо переплетались с живыми деталями реального повседневного быта крестьян. Казалось, что открывается широкое поле исторического исследования русского фольклора. Однако, оказалось что это не так. В сказках отыскивались лишь некоторые детали, которые отражали действительность второй половины XIX в., но и они были явно периферийными, второстепенными, не сюжетообразующими и не стилеобразующими. В русских эпических и исторических песнях и вовсе нельзя было отыскать почти ничего, что напоминало бы о XIX–XX веках. Пересматривая самые различные публикации по истории русского крестьянства, я набрел на так называемую «беловодскую легенду», которая настолько мало была известна специалистам по русскому фольклору, что в начале 1960-х гг., никто, кроме В. П. Адриановой-Перетц, не мог о ней ничего вспомнить. Между тем легенда функционировала не только в устной традиции; параллельно с ней возник и распространялся рукописный вариант, в списках так называемого «Путешественника Марка Топозерского (инока Михаила)». В монографии 1967 г. я неоднократно ссылался на списки «Путешественника». Однако издательские обстоятельства, к сожалению, тогда сложились так, что после предварительной публикации известных на тот момент мне списков «Путешественника», в монографии они могли только цитироваться.[8] В настоящей же книге публикуются все известные на сегодняшний день варианты текста «Путешественника», выявленные мною и другими исследователями.
Я предположил, что Беловодская легенда непосредственно связана с миграционным движением крестьян из центральных губерний в Сибирь в интересовавший меня период. Дальнейшее исследование показало, что отчасти это так, но поиски корней легенды увели меня не только в XVIII в., но и далее — в XVII век. Это была типичная социально-утопическая легенда о «далекой земле». Несколько раньше я писал о «новгородской утопии», которая оставила явственные следы в текстах И. А. Федосовой. Это тоже была социально-утопическая легенда, но другого типа — о «золотом веке», известная многим народам мира, т. е. легенда о давнем времени, когда люди будто бы не знали гнета, социальных контрастов и противоречий.[9] Дальнейшие поиски на русской почве, однако, показали, что длительное существование крепостного рабства оттеснило русские легенды о «золотом веке» на второй, если не на третий план. Чаяния большинства крестьянства связывались не с воспоминаниями о «золотом веке», а с легендами о «возвращении избавителя» — свергнутого царя либо царевича, не допущенного на трон из-за того, что как первый, так и второй хотели будто бы освободить крестьян.