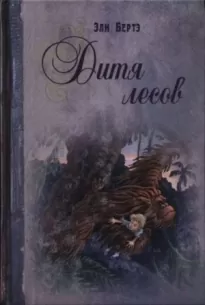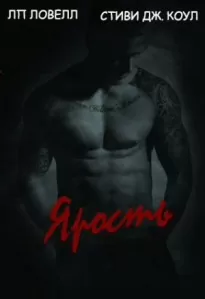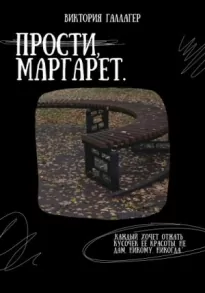Рязанцева Н.Б. Не говори маме
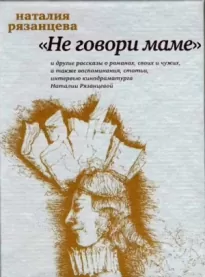
- Автор: Наталья Рязанцева
- Жанр: Публицистика / Классическая проза / Биографии и Мемуары
- Дата выхода: 2005
Читать книгу "Рязанцева Н.Б. Не говори маме"
Мы встретились в неуютном тесном кафе, и Илья мне рассказал сюжет «Непобедимого» — про стареющего, сходящего бегуна на длинные дистанции. Он мечтал снять картину про спорт, сам, как режиссер. А пока — эстонские астрономы уже встали поперек горла, и еще какие-то предложения, планы, дела, дела, дела… Я была тут явно некстати. Глаза у него бегали, разбегались. К нам кто-то подсаживался, и один человек, маленький, усатенький, засиделся, они давно не виделись и болтали помимо меня. А когда мы встали — уходить, зашуршали своими «болоньевыми» плащами, приятель этот вдогонку спросил: «Ну как там Эйбутина, все в порядке? Когда ждете прибавления?» Илья ответил, что скоро, и всё в порядке.
Мы вышли под моросящий дождик. Я была этой новостью так ошарашена, что вопросы застревали в горле. Да и вопросов не было, все объяснилось: у него беременная жена, и ей скоро рожать. И он даже не делает вид, что рад моему приезду. Доплыла, идиотка. Разговоры сами собой сворачивали на надежные литературные тропы. Про жену удалось узнать, что она из Каунаса и не любит Тургенева. Зато можно в тряском трамвае обсудить, религиозный ли писатель Достоевский. На набережной Фонтанки мы старательно отворачивались от лестниц, ведущих к воде. Помню, как он уходит по лужам, быстро, косо, одно плечо выше другого. Уходит навсегда.
Вдруг, недели через две — звонок откуда-то издалека, незнакомое эстонское название. И двое — Илья и Толя — наперебой мне рассказывают, как прекрасно они живут, что за волшебное место это Пыхо-Ярве возле города Отепя, который под Тарту. «Приезжай, если можешь», — говорит Илья. «Приезжай — не пожалеешь!» — кричит Ромов. «Я тебе перезвоню завтра в это же время, — говорит Илья командным тоном. — Развязывайся с делами и бери билет до Тарту». Времени пококетничать, потянуть «я подумаю…» не оставляют. За меня уже приняли решение. А у меня недописанный финал, и Лариса рвет и мечет, и завтра сдавать очередной вариант, и в газету надо ехать ругаться, передернули мою статейку до полного «наоборот», газетный «подножный корм» дорого достается, журналиста ноги кормят, а туфель осенних нет, а которые есть — их уже никто не починит. Я сижу за машинкой, тупо уставившись в очередной, четвертый финал. Я уже знаю, что поеду, — пропади оно все пропадом! Из последних драматургических сил сочиняю версии для родителей, для Ларисы…
В Тарту я не стала ждать автобуса, схватила такси, и таксист оказался гонщиком, и помчался по извилистой дороге так, что дух захватывало. В духе картины «Мужчина и женщина» (которой тогда еще не было) летела я в Пыхо-Ярве. Приезжаю — среди леса дом, белый как корабль. Вокруг — ни души, ни звука, только листья падают. Кричу «Ау!» — как в русской сказке. Вижу озеро за деревьями, посреди озера — остров. Тишина на много километров вокруг. Наконец, вылезает откуда-то старый привратник. Он ни слова не знает по-русски и глуховат. Кричу ему в ухо фамилии постояльцев — Ромов, Авербах! Кое-как, жестами, объяснились. Они пошли к автобусу меня встречать. Они жили там одни. Наверху ресторан, внизу — комнаты для приезжих.
«Ты ела когда-нибудь настоящий Пыльтса-амасский мармелад?» — вскричал Илья, как только мы встретились. Они передразнивали эстонский акцент и веселились как дети. Сценарий свой эстонский читали с акцентом. Илья любил Эстонию хотя бы за то, что она не пахнет большевиками. В тот год его ненависть к их власти была в самой острой фазе. Он обличал эту власть вместе с «важнейшим из искусств» и с продажной литературой, не упускал случая сказать обвинительная речь — то про фильм «Великий гражданин», то про Гайдара, то про Маяковского, уж не говоря о современниках. Как раз недавно прошел суд над Иосифом Бродским, стенограмма этого процесса ходила по рукам, и я ее читала, но для ленинградских интеллигентов, друживших с Бродским и знавших все подробности, это была такая свежая рана, такая ярость от бессилья закипала, что только взять автомат и крушить подряд этих ублюдков.
Я с изумлением выслушивала эти приступы «молодежного» экстремизма. Мы еще во ВГИКе прошли эту стадию, уяснили, в какой стране живем, гражданский темперамент иссяк, растворился в анекдотах, и каждый в одиночку выбирал для себя путь выживания, неучастия в этом безобразии. В обличительных монологах Ильи я ничего нового не услышала, все это уже носилось, пронеслось в воздухе, кого-нибудь другого я бы и слушать не стала, но он уже тогда называл октябрьскую революцию «переворотом», досадовал и негодовал прямо из того времени, будто сам причастен к этой беде, к тому, что не спасли, профукали Россию, отдали кучке большевиков, которых никто и в расчет не принимал. Он уже читал Шульгина и множество мемуаров о том времени, и философствовать об истории, которая не имеет сослагательного наклонения, с ним явно было неуместно. Он там жил, где большевиков еще и духу не было. «И служил царю и отечеству? — усомнилась я. — Да ты бы там стал левым эсером!» «Никогда! — обиделся он. — Я — кадет, давно вступил в кадетскую партию, дружу с Шингаревым и Кокошкиным…»
Мы тогда еще не читали ни Набокова, ни бунинские «Окаянные дни», ни Бердяева, ни «Несвоевременные мысли» М. Горького, ни многого другого, хотя уже обсуждали с пристрастием подпольного «Доктора Живаго», и я сейчас с трудом, боясь соврать, вспоминаю наши исторические споры. Обреченность моих дедов-прадедов была для меня удручающей данностью столь понятной и неактуальной, как прошлогодний снег, и вдруг воображением Ильи она окрасилась в романтические тона. То есть из «России, которую мы потеряли» — я знала многих — старух, старушек, не сдающихся дам. Но не мужчин — их истребили, они самоистребились, обратились в поэтические тени, а душа по ним тайно тосковала, искала своего придуманного Гумилева.
Илья был оттуда, из всех миновавших эпох он выбрал эту обреченность, хотя и в других временах был вполне начитан, и его детские, юношеские чтения оставались всегда при нем. Даже совсем уже больной, он перечитывал «детские» свои книжки — Дюма, Диккенса. Вообще ностальгия была частью его существа, не минутными приступами, а навязчивым состоянием, с которым он пытался бороться. Иронизировал над собственной сентиментальностью. По какому потерянному раю он тосковал? По запаху «кашки»? Он клевер всегда называл «кашкой» и любил все деревенские запахи, только в русской деревне умел отдыхать. Но об этом я узнала нескоро.
Тогда в осеннем Пыхо-Ярве мы делали вид, что попали в рай. Мы ходили обедать в безлюдный городок Отепя, украшенный высоким трамплином, — там тренировались мастера зимних видов спорта, и весь город принадлежал им. Мы гуляли по лесам и говорили обо всем на свете, кроме самого главного. Я знала, что его дома ждет беременная жена, что его терзают угрызения совести и полная неопределенность будущего, и надо мне как-то самой прорвать это молчание, уже невыносимое. А у меня язык отсох. Непьющий Толя Ромов оставил нам чуть отпитую бутылку водки и удалился спать, объявив, что к завтраку Илью не ждет, потому что завтра суббота и можно сделать выходной: понаедет местное начальство, вот уже в ресторане что-то жарят, а в коридоре весело перекрикиваются по-эстонски первые посетители. Стало быть, Илья остается у меня ночевать. Естественный ход вещей — лечь в одну постель — мы сами ухитрились превратить в событие чрезвычайной важности. Мы — взрослые, опытные, привычные к фривольным шуткам и сплетням — сидим, смеемся, над собой смеемся. Сверху музыка из ресторана, за окном машины тормозят у парадного подъезда, и публика, приехавшая веселиться, сходу начинает хохотать.
Мы убежали к озеру и там, в тишине, в темноте, на мостике, нашлись какие-то слова, которых я не помню, о том, как надоело лгать жене и притворяться, что «все будет хорошо», когда уже ясно, что хорошо не будет, и он испортил человеку жизнь, а сам-то он — никто, обманщик, дилетант, вечный студент и неудачник с дурным характером, никому не приносящий счастья…
Не помню, что из покаянных слов слышала я тогда, а что потом, но помню, что покаяние оказалось заразительным. Я молча перелистывала собственную жизнь с отвращением, ужасалась грехам своим и ничтожеству, как никогда прежде. Всё про себя — ни исповедаться, ни покаяться у меня никогда не было потребности, но в этом Пыхо-Ярве что-то со мной случилось, чему религиозные люди дали бы свое название: грехи настоящие обозначились под осенними звездами и отделились от мелких житейских глупостей, и это касалось только меня, моего прошлого, мне кто-то показал, чего я себе никогда не прощу, и если я помню сейчас об этом «просветлении», приносящем острую боль, то только потому, что эта вспышка случилась там и тогда. К самобичеванию Ильи это не имело отношения. Я знала наизусть все, что он должен сказать, выговорить при мне, и то знала, что не скажет, но думает — что боится и мне испортить жизнь. И было бы что ответить: что нечего там портить, сама испортила — дальше некуда…
Столь долгая рефлексия не располагает к простым физическим движеньям: погасить свет, выключить электрокамин, задернуть шторы. Там еще не топили, и холод был промозглый. Оказалось, что Илья всегда спит голый, и я, дико стесняясь, сняла и спрятала свою ситцевую полосатую рубашку, такую неуместную для соблазнительницы, любовницы, разлучницы. И вдруг над нами грянул эстонский хоровод. Вы знаете, как пляшут эстонцы, когда сильно выпьют? Они образуют хоровод, кладут руки на плечи друг другу, скачут и топают. Пока не устанут, а они никогда не устают. Прямо над нами, над нашим потолком — плюх! плюх! плюх! — в ритме кузнечного цеха или той круглой штуки, «бабы», что рушит дома, грохотал над нами до утра эстонский хоровод.
Тут пора ставить точку в хронике моей безответной любви. Началась наша переписка и тайные свидания.
Я сейчас перечитала все его письма и пыталась разложить по порядку. Их больше пятидесяти, и моих столько же. Свои я нашла в его письменном столе, уже после его смерти, когда разбирала бумаги. Они без конвертов и дат, почти все — на машинке (чтобы мама думала, что я работаю). Он тоже писал на машинке — тоже морочил домочадцев. У Ильи были прекрасные руки, красивые длинные пальцы. Я получала его письмо и видела, и ощущала эти руки, которыми он писал. А если бы я его не знала — совсем, и мне откуда-то, по ошибке, вдруг залетело одно такое письмо, я бы его не выбросила, сохранила, я бы влюбилась в этого человека и искала его, может, всю жизнь. А не ту, которой оно предназначалось. Я бы лишила ее этого сокровища.
Я слишком затейливо выражаюсь? Да, и в письмах тоже мы не были простачками — и лукавили, и впадали в литературность, и хотели казаться лучше, чем есть. И становились лучше. Если сложить всю переписку подряд, получится эпистолярный роман со счастливым концом, непредсказуемо счастливым. Мы поженились в мае 1966-го — официально, в ЗАГСе, но до этого я уже полгода жила у него в Ленинграде. А еще до этого был год скитаний, в разных географических точках, по чужим домам и дачам мы встречались, а иногда оставались совсем бездомными. Не стану описывать эти встречи — тут больше подходит кино, серию трагикомических новелл «В поисках необитаемого острова» я вижу как на экране, во всех подробностях, но где теперь взять эти подробности, и где взять нас — молодых?