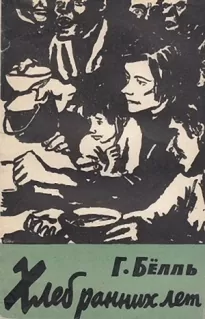Малиновые облака

- Автор: Юрий Артамонов
- Жанр: Советская проза
- Дата выхода: 1991
Читать книгу "Малиновые облака"
4
Вечером у шалаша Карп встретил Лавруша:
— Устал?
Сейчас он как будто подобрел к парню, смотрит дружелюбно. Видимо, понял: не собак гонять прибыл сюда Лавруш — работать. Пусть и накосил меньше других, но для начала сгодится. Вот попривыкнет, вспомнят руки-ноги былую сноровку, станут гибкими, ляжет коса в руки, пойдет плечо — тогда другой разговор.
— Устал, — выдыхает Лавруш.
— Ничего, втянешься…
На косовице Лавруш все время поглядывал на Ануш: как держит косу, как точит, как легко передвигается. И удивлялся: такая молоденькая, откуда у нее сила и сноровка? Как косит — легко, без усилий, коса сама плывет, только держи ее, не упусти! Со стороны глядеть: что тут особенного, маши себе в обе стороны. Махнешь, и трава ложится головой вправо, ровно, как солдаты под пулеметной очередью. Ан нет, и здесь нужно умение. Пусть и сила богатырская есть, а без сноровки быстро ее растратишь. Одеревенеет спина, руки и ноги застынут от напряжения — тогда машешь, как дрова рубишь. Главное на сенокосе — чувствовать себя легко, непринужденно. А Лавруш заставлял работать больше себя, чем косу, и потому у него сейчас такое ощущение, будто потерял чувство времени, связь с жизнью. Все тело оцепеневшее, чужое, и нет сил даже шевельнуть рукой. Ступня горит как в огне — не так ногу ставил, кисть руки ноет — не так косу держал, в спину будто кол вбили — неправильная осанка. И чем больше старался он догнать — хотя бы догнать! — других косцов, не опозориться перед девчатами, тем больше почему-то отставал от них, мешал идущим следом. А как скошенная трава лежит позади него? Стыдно смотреть. Не ровной грядкой, не строчкой, как у других, а валом, будто медведь тут шастал косолапый, разворошил все, разбросал. Но никто не посмеялся над ним, никто не упрекнул. Даже показали, как держать плечо и руки, как вести косой по траве — толково объяснили, просто. Лавруш заметил мельком, что Ануш улыбается, глядя на него, покачивает головой. И как тут не улыбаться, коль человек свой, деревенский, а косой машет так, будто впервые видит ее. Но не ото было обидно. Горько было оттого, что она не подошла, не показала, как другие.
Вечером косцы долго не задержались у шалаша. Передохнули чуток, привели себя в порядок, утолили жажду смородиновым чаем и, сев на машины, укатили домой. Все это было так неожиданно для Лавруша, так странно, что он только глядел на них недоуменно, ничего не сказал, ничего не спросил, и сам не знал, как поступить: то ли остаться, то ли ехать вслед за всеми. Но разве для того он здесь, чтоб только поработать, как обычно, а потом домой, в постель?! Что же это за сенокос будет? А ведь подумал же давеча: шалаш один, как все разместятся, где будут спать? Вон как, оказывается, никто и не собирался оставаться. Не те времена…
Все уехали. Ошарашенный, недоумевающий, Лавруш остался сидеть за столом. Не с кем поговорить, не на ком взгляд остановить. Пусто, одиноко, будто остался он на белом свете совсем один. Да вот еще Карп… Ходит легонько тихими шажками, собирает со стола ложки, кружки, складывает на место раскиданные косы, грабли. Каждую косу пробует пальцем, тупые откладывает в сторону. Словом, ищет себе работу.
Кругом ни души. Даже лошади исчезли: то ли увели их, то ли сами куда-то убрели. Ни с луга, ни с Кокшага не слышно ни звука. Даже ветерок не подует, не склонит траву. Все онемело, остановилось.
Но вот с той стороны шалаша, где расположился Карп, послышались душераздирающие звуки: кр-р-р, кр-р-р — старик точит косы. Звук медленный, скребущий, опустошающий душу, выворачивающий внутренности. И оттого еще паршивей на сердце. Постепенно звуки меняются, и вот уже слышен чистый звон, быстрый, мимолетный: чыжик-чожик, чыжик-чожик — старик направляет косу.
Лавруш побрел к берегу — и там тихо. Кокшага спокойна, не играет рыба, молчат лягушки, и сама вода неподвижна, как зеркальная гладь, видны в ней небо, намертво вставшие облака, бездонная глубина отраженья. Побродил у веды, огибая кусты, и не заметил в траве ни кузнечика, ни другой какой-либо прыгающей или ползающей мелочи. Поникла трава, отяжелела — скоро падет роса. День окончился, а ночь еще не пришла. Свет и тьма встали друг претив друга, как молчаливые враги.
Лавруш подошел к шалашу. Подошел тихо, чтобы не помешать этому противостоянию, не нарушить таинство природы, которая, как женщина перед сном, снимает дневные одежды, чтобы остаться в тонком и нежном покрове — для ночи. И Карп, видимо, чувствует это. Без шума заходит в шалаш, готовит постель из сухого сена, покрыв его ватным одеялом. Пристраивает в изголовье свернутый старый зипун, шубу. Поправив полог и подоткнув края постели, говорит:
— Ложись, сынок. Устал ведь…
Что греха таить, Лавруш действительно устал. Он не заставляет упрашивать себя, разом ныряет под полог. Окунувшись в мягкую постель, как давеча в воду, накрывается вторым одеялом и успокаивается.
— Вот и хорошо, — вполголоса разговаривает сам с собой Карп, — товарищ есть, а то все один да один… Не с кем словом переброситься. Оттого, видимо, и говорун я таковский…
— А почему домой не едешь? — спрашивает Лавруш. — Что здесь охранять?
— А что дома… Я, брат ты мой, всегда сенокоса дожидаюсь. Сейчас меня пряником в деревню не заманишь. Славно здесь. Я ведь, как уродился, не мать сперва увидел, не отца — а вот это небо, этот луг…
— Как это?
— А я здесь родился. Может, в этом именно месте, а может, чуть подальше, под кустом… Все здесь родное. Этим и живу. После избы-то здесь и дышишь легче, и чувствуешь себя молодым…
— Карп Афа… — начал было Лавруш и тут же закусил губу. Даже отодвинулся чуток, думал, рассердится старик да наградит оплеухой.
Но тот лежал тихо, даже дыхания его не было слышно, а потом сказал:
— Перестал я сердиться. А раньше… Загорался, как можжевельник, — с треском, с искрами. Прошли те времена, нет теперь обиды. Верно, с этим именем и уйду в могилу. И вспоминать вы будете его, если еще вспомните…
— А что умирать-то собрался?
— Дак к следующему сенокосу восемь десятков набежит. Эх-хе-хе. А вот взгляну на Кокшагу — и будто превращаюсь в мальчишку. Таким же глупым и тихим был, как ты… Все говорили, что русалку я здесь подкараулил, к ней бегаю… Я ведь и свадьбу с Проской здесь хотел праздновать, на лугах. Не согласилась, шайтан. «Коль сам, говорит, водяной, так и женись на своей русалке! А я человек и свадьбу хочу по-человечески сыграть: в доме, за столом». Пусть теперь обижается. В жизни ведь все делается один раз: раз родишься, раз женишься… И надо все вовремя сделать и красиво, чтоб запомнилось всем, чтоб говорили об этом. Не послушалась меня, сделала по-своему. И до сих пор ревнует к Кокшаге. «Опять, говорит, к своей русалке идешь, старый дуралей?» Вот ведь какая…
Лавруш задумался над этой странной, но почему-то понятной и близкой ему блажью старика. А тот вдруг коснулся его плеча и прошептал:
— Ты послушай, послушай. Сейчас начнется — самое время.
Лавруш прислушался. Странная, звенящая какая-то тишина нависла над миром, даже слышно было еле различимое потрескивание сухого сена на крыше шалаша. Она росла, расширялась, охватывая всю землю. Казалось, что ты находишься внутри огромного, тихо поющего, вибрирующего стенками пузыря. И вдруг, прямо над шалашом, скользнул тихий и протяжный звук, продолговатый, гладкий, похожий на сладостный стон, на выдох.
— Соловей, — зашептал старик. — Пробует голос. В ивняке он, справа, где можжевельник. Каждую ночь сюда прилетает. Слушай!
Соловей замолчал, будто застеснялся, и пробный всхлип его растворился, растаял в тишине. Остался лишь отголосок в душе Лавруша: ласковый, чистый, хрупкий, как тонкое-тон-кое стеклянное веретенце.
Тишина сжималась, уплотнялась, и когда тот огромный пузырь ее спрессовался почти до вещественной твердости, кто-то властно и уверенно ударил в певучее янтарное стекло: тьр-р-р, чоп-чоп-чиоп. Так, что полетели, посыпались в разные стороны брызги мелких и частых пустотелых шариков.
И сразу, будто ждали этого вступления, будто освободились от тягостной неловкости молчания, осмелели другие птицы. «Кер-кер-кер», — проскрежетал кто-то в лугах. «Уить-у, уить-у», — взмолилась какая-то птаха на берегу. Замолчала, еще отчаяннее и безнадежнее выкрикнула свою просьбу и уже без перерыва, с равными промежутками, будто раскачиваясь на качелях и замирая в верхней точке, отчего на душе становится холодновато и жутко, заплакала: уить-у — «пить хочу». Будто у нее пересохло горло, будто нет рядом Кокша-ги, наполненной до краев, нет влаги на листьях и травах, нет пропитанного свежестью воздуха вокруг. Какая же вода ей нужна? Не та ли сказочная, живая, что льет на округу, затопляя луга, соловей?!
Брльоп-чоп! — вдруг ударяет хвостом по воде аршинная щука и гонит волну к берегам, за ней еще одну и еще, кругами. Угу-гу-у-у-у! — подает из лесочка голос филин. Ква-а-ха-ха, — хохочут лягушки с жаром и со странной для этих холоднокровных созданий страстью. Все разом, стараясь перекричать друг друга, прерываясь, чтоб набрать воздуха и опять взорваться какофонией звуков: пилить, скрежетать, щелкать, бренчать, свистеть. Но соловей перекрывает всех: круглые его рулады катятся шарами, подминая остальные голоса, как тележные колеса траву. Он смеется, как человек, причмокивая от удовольствия; ржет жеребенком; гудит, как ветер в печной трубе; звенит жаворонком, гибко меняя тональность и мелодию. Что же вытворяет эта серенькая невзрачная птичка! С ума сойти!
Часа два, наверное, продолжался этот концерт, а потом все разом угомонились. И последнее слово сказал, как и начал, соловей. И голос его был чист, свеж, хоть заново начинай. Он как будто заявлял всему свету: «Я победитель!»
Карп вздохнул глубоко, произнес:
— Вот поэтому меня и тянет сюда. Всю жизнь об одном мечтал: построить бы здесь, на берегу, маленький домик и жить… Что помешало так сделать — не знаю.
— Ну, а сейчас? Разве это трудно?
— Ай, — махнул рукой Карп. — Жил как все, так и умру как все.
— Вот бы удивился народ, если б ты сюда перебрался.
— А что, — вдруг засмеялся старик. — Удивить всех под конец — это неплохо.
И долго он еще посмеивался своим мыслям, представляя, видимо, что получилось бы из такой шутки.
На земле царствует ночь. Но почему-то светло, даже под кустами не заметишь темного пятна тени. И проглядываются они почти насквозь, можно различить отдельные веточки, листья. От Кокшаги поднимается белый молочный пар, цепляется за кусты, наплывает на берег и потихоньку сливается с полосой тумана, что ползет с низины к шалашу. Туман заволакивает, растворяет, как горячая вода сахар, скирды и кусты и встает, наконец, белой стеной перед входом. Вытянешь руку — не видишь пальцев и ничего не чувствуешь. И только потом ощущаешь на них влагу, будто окунул пальцы в ведро с молоком.
Сон не идет. Лавруш думает о том, что увидел и услышал сегодня, что нутром почувствовал. Сколько заметок в душе оставил сегодняшний день! И каких! Новыми глазами увидел он и Кокшагу, не теми ли, что в сердце?! И кажется теперь, что Кокшага и не Кокшага вовсе, а он сам или вот Карп, или сам ласковый трудолюбивый марийский народ. Она молода и чиста, она щедра к земле, траве, деревьям, людям. Она мудра и терпелива в своих заботах, как Карп. Так какая же она: молодая, старая? А сам он, Лавруш, кто? Листок травы? Капля воды? Цветок или крупица росы? Все перепуталось в голове, как моток ниток, который распустили и уронили нечаянно на пол. Поди собери…

![Красное вино Победы[сборник 2022]](/uploads/covers/2023-10-29/krasnoe-vino-pobedysbornik-2022-201.jpg-205x.webp)


![Собственник [англ. и рус. параллельные тексты]](/uploads/covers/2024-01-10/sobstvennik-angl-i-rus-parallelnye-teksty-201.jpg-205x.webp)