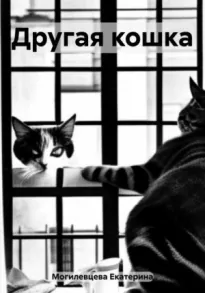Музей заброшенных секретов
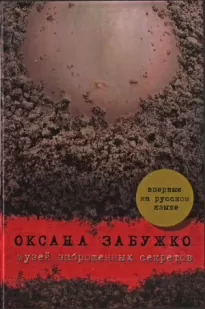
- Автор: Оксана Забужко
- Жанр: Современная проза
- Дата выхода: 2013
Читать книгу "Музей заброшенных секретов"
Некоторые моменты, которые раньше ускользнули бы от внимания, теперь продирали как наждак по ссадине: например, когда Вадим по-пьяному голосил: «Как же я теперь буду жить, — с непосредственностью избалованного мальчика, который катается по полу без штанишек, потому что некому его одернуть, — она же мне планку держала!..» — вот, значит как, сухо и недобро щелкало у меня в мозгу, будто кнопка калькулятора, и тебе, значит, тоже?.. На похоронах он тоже задвинул, уже без надрыва, со скупым мужским трагизмом: «Она была лучшее, что было в моей жизни», — будто, заслышав такое признание, Господу Богу следовало осознать всю меру нанесенного ему, Вадиму, личного урона и покраснеть, — и снова меня царапнула обида: а как же ее жизнь, как же теперь вернуть смысл ее жизни, разве не это сейчас самое главное? Можно было, конечно, сделать скидку на то, что в шоковом состоянии люди и не такое несут, а тем более мужчины — что поделаешь, ну не умеют они ни рожать, ни хоронить, эти самые тяжелые и грязные житейские работы предназначены женщинам, и не требовать же от оглушенного горем парня безупречной стилистики — я, видно, тогда еще продолжала, по инерции, мысленно складировать впечатления, чтобы когда-нибудь пересказать их Владе (еще не один месяц ловила себя на этом), так как в этот момент в памяти всплыл, будто полноправным участником, подключившись к моему внутреннему диалогу, рассказ самой Влады — очень давний — про то, как в детстве отец возил ее в село на похороны своей матери, Владиной никогда-раньше-не-виденной бабушки: Влада запомнила, как просыпалась ночью и видела сквозь приоткрытую дверь мерцание свечей в соседней комнате: там «бдели над покойником», и свечи, казалось маленькой Владусе, прорастали из темноты сами собой, как огненные цветы, она подумала, что это и есть папоротник, о котором рассказывалось в сказках, и даже загадала желание, только не помнила какое, — и вот в ту ночь она услышала причитания, «настоящие причитания, Дарина, теперь такого уже и в селах не услышишь!» — говорила, это было как пение: одна-единственная музыкальная фраза все время повторялась, разгонялась вверх, словно по косогору, и бессильно съезжала вниз, как тот «газик», на котором они с отцом добирались до села по осенней грязи, буксуя на каждом пригорке, и в этой монотонности была какая-то всепроникающая жуткая ясность, словно именно она, эта монотонность, и была наиточнейшим проявлением красоты, и муки, и тщетности людских усилий под этим небом, — маленькая Влада замерла под тяжелым одеялом, боясь вздохнуть, до косточек пронизанная вселенской жалью, для которой не существует утешения: голос был женский, он пел-плакал на той единственной фразе, переливаясь словами, выповедывая дела и поступки покойницы уже кому-то безадресному, кого не было в той комнате, словно перебирал их и, омывая собою, превращал в благородные клейноды, сверкающие, как драгоценности, так что Влада не сразу и поняла, что пелось все это про ее родную бабушку, которую она не знала и которая теперь лежала там, под огненными гроздьями свечек, и уже не встанет, как ее сейчас ни просили, с той страшной силой осознанной безнадежности просьбы, которая и зовется у людей отчаянием: «ой востань, востань, моя друженька…» — иных слов Влада не запомнила, да они и не предназначались для запоминания, это была импровизация, которая звучит лишь раз, не повторяется и не воспроизводится, — зато запомнила, как одобрительно пробормотал рядом, у дверей, мужской хрипловатый бас: «Хорошо причитает!» — и так узнал городской ребенок, что это было причитание и что у причитания, кроме нее, были и другие свидетели — была публика, которая пришла его оценить. В то же мгновение, рассказывала она, чары развеялись — плакальщица в ее глазах превратилась в нечто вроде актрисы, и вскоре после того как она умолкла, Влада различила среди бабьего приглушенного бормотания ее вполне будничный, как будто сразу переодевшийся в сухое, голос: он отвечал или отдавал кому-то деловые указания, про какие-то полотенца, и сколько их куда нужно, — «я тогда заснула с таким горьким чувством, — вспоминала Влада, — будто меня обманули…» Теперь, когда она сама лежала, утопая в наваленных на нее цветах, и только ее имя каждый раз наново ранило во время панихиды, словно пробуждая ото сна: прими, Господи, душу рабы Твоей Владиславы и прости ей грехи ее вольные и невольные, — Владиславы? как, это о ней?.. Господи, Влада? Владуська, неужели!.. — и слезы тут же ударяли мне в нос и в глаза, как из открытого крана, и еще без слез не могла я смотреть, как поднимали и несли ее гроб, тот, что «за тысячу долларов»: гроб выглядел маленьким, будто детским, как-то при жизни не замечалось, какой Влада была девочкой-дюймовочкой: пока она говорила, двигалась, смеялась, ее было невероятно много, и может, еще и потому в гробу она казалась обездвиженной насильно, не мертвой, а действительно убитой и умышленно выставленной напоказ, чтоб всем в упрек открылась наконец ее не замечаемая раньше беззащитность, — когда она вот так лежала, а мы, стоя над ней, пытались что-то лепетать (и я тоже!), и все слова были такими тесными и никчемными — ну кому какое дело, чем она была для тебя, человече?! — не соизмеримыми, даже если сложить их все вместе, с ее оборванной жизнью: это были те же слова, какими люди потом будут говорить, придя с похорон домой и попивая на кухне чай, — только сейчас я могла бы сказать Владе, как дорого бы дала, чтобы над ней, как когда-то над ее бабушкой, кто-то «хорошо попричитал». Я могла бы ей рассказать, чего мы раньше с ней не знали, — как распирает горло твоя огромная, как зоб, немота, когда не владеешь этим забытым древним ритуалом — единственным, как стало ясно, пригодным для этих минут: предназначенного обмыть всю жизнь человека разом — так, как обмывают тело, обычными словами так не получится, обмыть — и вознести ее напоказ над головами толпе над гробом так, чтоб от этого стало «хорошо», — то не обманывание было, говорила я в пустоту отключенного телефонного аппарата, то было искусство, Владуся, только никто им уже не владел, и я не владела, и из меня, попытайся я охватить свое состояние голосом, вырвалось бы разве что сдавленное мычание раненой коровы…
А потом — медленно, по капле — начиналось забвение.
О Господи, да неужели это в самом деле — всё?
Дарина Гощинская встает из-за стола, подходит к окну и долго смотрит в темное окно, за которым мигают внизу редкие звездочки городских огней. Как все-таки плохо освещается Киев — а ведь это столица. Можно представить, что делается в провинции. И тьма, и тьма… Как плохо мы живем, Господи, и как плохо умираем…
— Дарина? — Удивленный голос Юрка, коллеги из вечернего эфира. — Ты чего это в темноте сидишь?
Щелкает выключатель — и из глубины окна, в отражении, перед ней всплывает (в первый момент неприятно застав врасплох) красивая молодая женщина — в таком тусклом освещении, когда размывается фактура деталей, и в самом деле молодая, и необыкновенно, жгуче красивая, даже страшно: что-то ведьмаческое, языческое. Длинные египетские брови, и губы темные, словно напоенные кровью, — насколько же это не похоже на телеэкранный образ, побуждающий думать прежде всего о том, от какой фирмы на ведущей костюмчик и какой она пользуется помадой. А тут лицо словно выхвачено из ночи светом костра — архаичное, грозно-прекрасное. Прежде чем повернуться назад к свету (к Юрку, который что-то ей говорит), Дарина жадно впитывает в себя это неприступное лицо, свое и не свое одновременно: вот, значит, какой она выглядит, когда остается одна, — намного сильнее, чем ей кажется. С ощущением этой силы Дарина и дарит Юре ослепительную улыбку:
— Извини, я задумалась… Что ты сказал?
— Только что, говорю, тебе звонил молодой человек, — взгляд Юрка становится многозначительно шелковым: их отношения уже несколько лет балансируют на грани офисного флирта, который ни к чему не обязывает, но какому же мужчине понравится быть герольдом, извещающим о приходе другого, так что коротенькой полувопросительной паузой Юрко дает ей шанс оправдаться, хотя бы движением бровей свести телефонного «молодого человека» к второстепенному положению, а не дождавшись, милостиво улыбается как бы в адрес молодого человека уже сам: — Тревожился, куда ты пропала.
— О боже, я же отключила мобилку! Спасибо, Юрчик.
Ну конечно, это Адриан. (Недовольный Юрчик между тем устраняется за дверь.) Как странно, что она забыла о его существовании. Что она каждый раз забывает о его существовании — как забывают о собственной руке или ноге.
— Адя?
— Лялюся? — Голос, как всегда, когда он говорит с ней даже недавно расставшись, переполнен безудержной радостью, на миг ей кажется, что она держит в руке его затвердевший, как обтянутый шелком камень, член, и волна Адрианового запаха (корица? тмин?) накатывается на нее с такой осязаемой силой, что ей приходится присесть на край стола, бессознательно зажав свободную руку между ног; «Лялюся» — так ее звали в детстве, когда она еще не умела выговаривать «Даруся», но Адриан сам изобрел это имя, лялька — моя лялька — лялечка — лялюся, — как чаще всего у чистых душой мужчин, его любовный язык был детским, и он не представлял, что кто-то может этого стесняться, поначалу она еще смущенно оборонялась: какая я тебе лялька! — однако тридцать-с-лишним-лет-не-слыханная «Лялюся» все-таки пробила, окончательно сломала инерцию ее женского опыта, лишний раз убедив едва ли не в метафизической целесообразности всех Адриановых действий, — так, будто он действительно владел каким-то тайным знанием о ней, перед которым ей следовало почтительно смириться, — и, видимо почувствовав это, он каждый раз выкрикивает в трубку свое триумфальное «Лялюся?», как молодой папа, только что давший имя первенцу и проверяющий, как оно звучит на слух… Но все равно, ей каждый раз становится неловко и хочется закрыть ему рот при мысли, что свидетелем этой беззастенчивой демонстрации счастья может стать кто-то чужой — в офисе, в машине, в магазине, или откуда он там звонит…
— Откуда ты звонишь?
Это звучит как заботливое беспокойство и так им и воспринимается, из-за чего она чувствует легкий укол совести, будто сознательно его обманула, и в ответ пытается сосредоточиться, покорно выслушивая, как он пришел — выбрался наконец — на свою труднопроизносимую кафедру, где до сих пор числится аспирантом, а шефа не застал, секретарша обещала, что тот скоро будет, и он напрасно убил почти час, выпив с этой дурындой пол-литра кофе, — только Адриан не говорит «дурындой», потому что он вообще не говорит о людях плохо без крайней необходимости, и даже когда такая необходимость аж пищит, обходится характеристикой одного отдельно взятого безобразия, не распространяя ее на персонаж в целом, Дарина же давно подозревает, что секретарша кафедры просто запала на Адриана и использует любую возможность, чтобы устроить с ним приятный тет-а-тетик, с ума сойти, какие наглющие теперь девки!.. (Справедливости ради, она, правда, вспоминает, что пока не стала Дариной Гощинской, ведущей одного из национальных телеканалов, ей тоже случалось самой проявлять инициативу с мужчинами, которые ей нравились, но это воспоминание уже такое далекое и туманное, что противовесом не срабатывает…) Пока он рассказывает, она машинально, краем глаза, взглядывает на свое отражение в оконном стекле (с мобилкой возле уха): сейчас это снова привычный экранный образ, только в очень плохом освещении.