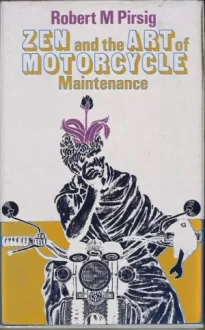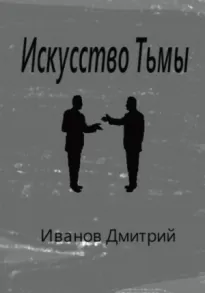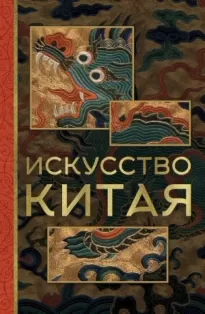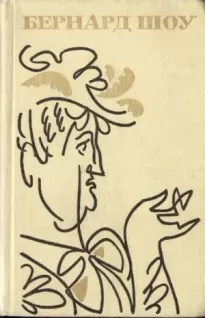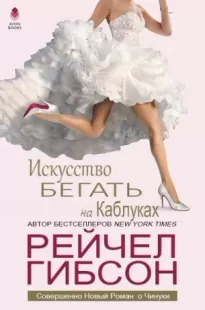Искусство в век науки

- Автор: Арсений Гулыга
- Жанр: Научная литература / Философия / Языкознание
- Дата выхода: 1978
Читать книгу "Искусство в век науки"
* * *
Философски насыщенный театр современен, созвучен эпохе, решающей вопрос, быть или не быть миру, гуманизму, цивилизации. В этой самой драматической общественной коллизии для театра отходят на задний план личные драмы и переживания; индивидуальная психология уступает место психологии социальной. Театр создает предельно обобщенные образы, воплощая замысел не в типических характерах, а через передачу типической ситуации. Идея проделывает здесь к зрителю гораздо более короткий путь, чем там, где она представляется в судьбах героев. Здесь ее подают зрителю прямо, непосредственно, используя все возможные средства сценического воздействия, и надо сказать, что зритель отвечает столь же прямой и непосредственной реакцией.
Центральное место в репертуаре Театра драмы и комедии на Таганке занимает «Десять дней, которые потрясли мир». — народное представление по мотивам известной книги Джона Рида, о которой в свое время Н. Крупская писала, что «она будет иметь особо большое значение для молодежи, для будущих поколений — для тех, для кого Октябрьская революция будет уже историей. Книжка Рида — своего рода эпос»[71].
Авторы сценической композиции подошли к книге Рида как к произведению народного эпоса, которое живет в устной традиции и обрастает все новыми и новыми вариантами, ярче и убедительнее передающими основную идею. Театр следовал не букве, а духу книги американского коммуниста. В том, что показано на сцене, очень мало взято непосредственно из текста книги, но полностью сохранен основной замысел Рида — дать ряд живых, характерных сцен, передающих настроение масс.
Спектакль поставлен в лучших традициях эпического, агитационно-повествовательного театра. Он начинается уже на улице: перед зданием динамик встречает зрителей революционной песней, билеты у входа проверяют вооруженные матросы и красногвардейцы, в фойе — красногвардейский патруль, стены увешаны революционными плакатами и лозунгами, выполненными в манере и с орфографией 1917 года. Над буфетом плакат со словами Маяковского: «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй!» Когда часы показывают половину седьмого, в фойе появляются несколько актеров, они поют под гитару частушки и приглашают в зрительный зал. На сцене грохочет залп, открывая это необычное представление, состоящее из множества эпизодов, составляющих вместе с тем единое гармоничное целое, подчиненное одной идее. Пантомима сменяется куплетами, за гротескной сценой следует игра теней, но зрителю настойчиво внушается, что «есть только два класса, и тот, кто не за один, тот, значит, за другой». Эти слова звучат в кульминационный момент спектакля и в его конце.
Действие спектакля нарастает как обострение революционной ситуации, когда «верхи» не могут управлять, а «низы» не хотят жить по-старому. Кризис верхов передан средствами шаржа и гротеска. Вот «благородное собрание», где священник, банкир, дворянин и фабрикант жрут, как свиньи, и рассуждают о судьбах России. Вот притча о чиновнике, который докладывает о бедственном положении страны, и сановнике, приказывающем «разруху ликвидировать», но «реформ не производить»; оба дергаются как заводные куклы, положение их непрочно, и они все время шатаются — того и гляди упадут. Наконец, рухнул трехсотлетний дом Романовых, но на шее у народа новая власть — диктатор Керенский, и он на наших глазах взбирается на чужие плечи, балансируя, как плохой акробат. Керенский — единственный персонаж, который появляется на сцене неоднократно. Последний раз, когда он окончательно обанкротился, «обделался», как сказали бы в народе, — эта метафора снова материализуется перед нашими глазами: Керенский сидит на корточках, растерянно мнет бумажку; потом переодевание в женское платье, и он уже «Александра Федоровна». Заседание городской думы показано так, что мы видим одни только руки участников, нервно жестикулирующие, охваченные смятением, ибо неотвратимо приближается конец; «отцы города» беспомощны, как дети, и эпизод логично завершается детской песенкой «Каравай, каравай, кого любишь, выбирай». Падение Временного правительства также подано, как сценическая метафора: из-под министров вытаскивают скамейку, и каждый из них, высоко подбросив портфель, грохается оземь.
Параллельно развертывается тема «низов», гнев и активность которых нарастают. Сначала выразительные пантомимы рассказывают нам о народной доле. «Вечный огонь» труда и революции — две фигуры в черном бьют молотом по наковальне, в вертикальном луче прожектора видно пламя, не сразу понимаешь, что язык пламени— это руки женщины в красном трико. «Кресты» — кладбище из живых людей, которые стоят подобно распятьям, на экран брошены их крестоподобные тени. «Тюрьмы» — тюремные решетки изображают переплетенные обнаженные руки, а круг заключенных на тюремной прогулке как бы воспроизводит известное полотно Ван-Гога. Молча в темноте стоит очередь за хлебом, и когда жующий булку толстый лавочник вывешивает объявление, что хлеба нет, прожектор освещает по очереди охваченные отчаянием женские лица. Временное правительство не принесло улучшения, по-прежнему война, голод, разруха, и стихийное народное возмущение принимает форму грозной революционной силы: половину огромного экрана занимают три силуэта — красногвардейский патруль, преграждающий путь растерянным «теням прошлого». Революционные массы приходят в движение, темп событий нарастает, и это впечатление усиливают прожектора, которые мечутся по затемненной сцене, придавая происходящему на ней необыкновенную динамику. Во главе масс — большевистская партия: на экране то и дело возникает портрет Ленина, мы слышим его голос.
Каким образом достигается цельность впечатления в этом пестром, как мозаика, конгломерате разнородных сценических элементов? Прежде всего за счет идейного единства. Внимание зрителя сконцентрировано на главном, правильном, понятном ему, волнующем его. Весь спектакль от начала до конца открыто публицистичен. Чтобы подчеркнуть эту публицистичность, режиссер разрушает даже те немногие крохи сценической иллюзии, которые иногда он создает. В блестяще сыгранном эпизоде «Благородное собрание», упоминавшемся выше, наступает момент, когда актеры поднимают маски на лоб и как бы с «открытым забралом», прямо, от себя, уже не как действующие лица, а как исполнители обращаются в зал. И твердая уверенность зрителя в том, что на языке театра с ним весь вечер ведут серьезный разговор по актуальным проблемам, заставляет его воспринимать спектакль как монолитное целое.
Далее, в спектакле использован художественный прием, который обычно считают прерогативой кино, — монтаж. В «Десяти днях» нет кинокадров, но то, что мы видим и слышим, возникает подчас как своеобразные сценические кадры, смысл которых становится понятен лишь в сопоставлении с предыдущим, последующим и со всем художественным целым. Здесь «ни убавить, ни прибавить», все на своем месте.
И еще на одну важную сторону спектакля, стягивающую его в органическое единство, следует обратить внимание. Речь идет о поэтическом строе представления. Эпическое повествование обрамляют лирические отступления — стихи Тютчева, Блока, Брехта и других поэтов. Их поют под гитару, их подают с известной долей иронии, чтобы, боже упаси, не впасть в сентиментальность, не расчувствоваться. Здесь снова придется вспомнить «благородное собрание». Не успели поп, банкир, дворянин и фабрикант высказаться по поводу непостижимости разворачивающихся в стране событий, как на сцене рядом с ними квартет гитаристов поет Тютчева на мотив одной из песенок Окуджавы: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить». Следующий куплет — это уже стихи самого Окуджавы: «Всю ночь кричали петухи…» Гитаристы поворачиваются спиной к залу и мы слышим насмешливое: «Кукареку!» — не понимайте, мол, все буквально, не принимайте слишком близко к сердцу.
Или другой эпизод — «Белая гвардия». Керенский принимает парад юнкеров. Тяжелой поступью маршируют они по авансцене, однако участь их уже решена, и жалкий, трясущийся Пьеро поет Вертинского: «Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть недрожавшей рукой…» В этом романсе и предчувствие трагической гибели юнкеров, своеобразная по ним панихида, и насмешка над теми, кто не понимает сути происходящего. Так театр создает сложную гамму настроений, подчас не поддающихся однозначному определению.
Надо сказать, что это удивительное сочетание эпического начала с лирическим зритель встречает и в других спектаклях театра на Таганке. Уже в первой работе, «Добрый человек из Сезуана» Брехта, выявилась эта характерная особенность творческой манеры театра. Брехт, как известно, считал, что главное в новом, неаристотелевском театре — объяснить зрителю суть дела. В пьесах Брехта на первом плане особого рода эмоции, приходящие к человеку через интеллект, через знание. Театр сохраняет эту интеллектуальную традицию Брехта, но дополняет ее сложным и тонким лиризмом. Во время действия в спектакле «Добрый человек из Сезуана» почти не смолкает музыка, негромкая, неназойливая, — аккордеон и гитара; иногда кто-то лишь насвистывает мелодию, которая сопровождает появление того пли иного действующего лица (многие из них имеют свой лейтмотив). Эти мелодии, уличный фольклор как нельзя лучше передают настроение современного города. Сцена почти пуста, никакой раздражающей глаз бутафории; почти все атрибуты действия «создаются» актерской игрой. Актеры одеты так, как мы привыкли видеть окружающих нас людей. Все буднично, но именно поэтому невероятно близко. И в результате театр добивается своего: историю превращений доброй, любвеобильной Шэн Те в беспощадного хищника Шуи Та мы воспринимаем, не только размышляя над ней, но и бессознательно, сердцем, всем своим «нутром», не только со стороны, но и как нечто случившееся с нами.
Глубокой искренней заботой о судьбе человека и родной культуры исполнен спектакль «Деревянные кони». Здесь объединены три новеллы Ф. Абрамова, и перед нами уже не просто деревенская проза; сведенные вместе, они перерастают в философскую драму. Речь идет о судьбе национального характера. Его носитель «Василиса Прекрасная» — героиня первой части спектакля. Это одна из тех русских женщин, что были воспеты Некрасовым. В ней бескомпромиссное служение добру и долгу, любовь к труду и уменье трудиться, жизнь в другом и для другого. Веками выковывался этот характер, и вот переломная эпоха проверяет его стойкость. Дитя эпохи — Пелагея (вторая часть спектакля). Есть в Пелагее что-то и от Василисы — все та же исконная русская любовь к труду, способность почувствовать его поэзию, есть верность близким и готовность по-своему служить им. Но есть в Пелагее и то, что по-ученому называется конформизмом, а по-житейски — приспособленчеством. При случае она готова пойти на сделку, в том числе и с собственной совестью. А ее дочь Алька? Это еще не сформировавшийся характер. Весь вопрос в том и состоит, возродится ли в Альке Василиса Прекрасная или покатится она вниз по наклонной, куда вступила ее мать, а сама она сделала еще несколько дополнительных шагов. Театр не отвечает на вопрос, но проблема поставлена. Решение нужно искать не на сцене, а в жизни.