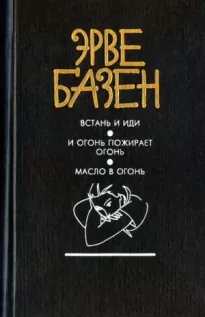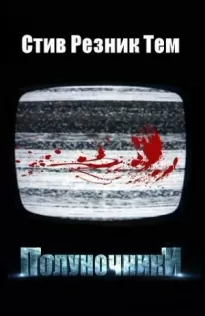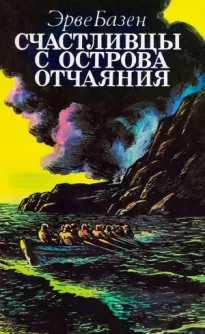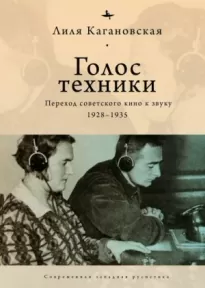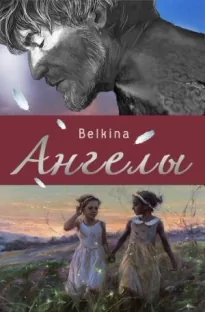Что такое кино?
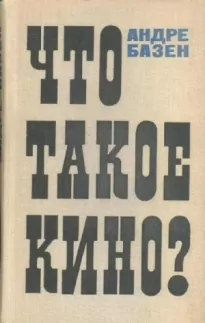
- Автор: Андре Базен
- Жанр: Самиздат, сетевая литература
- Дата выхода: 1972
Читать книгу "Что такое кино?"
В школьные годы, когда я увлекался минералогией, я, помнится, был поражен структурой некоторых ископаемых раковин. Известковые слои при жизни животного шли параллельно поверхности створок, однако с течением времени их молекулы перегруппировались таким образом, что образовалось огромное количество тончайших кристаллов, расположенных перпендикулярно первоначальному направлению слоев. Раковина сохраняла свой прежний вид, так что на поверхности можно было различить первоначальное расположение полосок; но стоило вам разломить хрупкую оболочку — и вы убеждались, взглянув на излом, что старая форма совершенно не соответствует новой внутренней микроархитектуре. Я прошу извинить меня за это сравнение, но оно иллюстрирует те молекулярные превращения, которые претерпела эстетическая структура пьесы Лилиан Хеллман, хотя в экранном воплощении она и сохраняет парадоксальную верность своему театральному обличью.
В «Лучших годах нашей жизни» проблемы предстают в ином свете. Практически фильм поставлен по оригинальному сценарию. Роман в стихах Мак Кинли Кантора, переделанный в сценарий Робертом Шервудом, конечно, не был сохранен в своем первоначальном виде, как это имело место с пьесой Хеллман. Характер сюжета, его серьезность и актуальность, его социальная органичность требовали в первую очередь скрупулезной и почти документальной точности. Сэмюэль Голдвин и Уайлер хотели сделать фильм, который был бы столь же художественным, сколь и гражданственным произведением. Речь шла о том, чтобы через сюжет, хотя и романизированный, но типичный и достоверный до мельчайших деталей, показать с достаточной широтой и сложностью одну из самых мучительных социальных проблем послевоенной Америки. В известном смысле «Лучшие годы нашей жизни» схожи с теми воспитательно–дидактическими фильмами, которые Уайлер делал во время войны для нужд американской армии. Мы знаем, что война, побудившая людей по–новому взглянуть на реальность, оказала глубокое влияние на европейское кино. В Голливуде это воздействие было менее ощутимо. Однако несколько режиссеров все же были затронуты этим потоком, этим циклоном новой реальности, обрушившимся на мир, что и выразилось здесь, как и повсюду, в стремлении к реализму, выступающему как требование этическое.
«Мы все трое (Капра, Стивене и Уайлер) участвовали в войне. На каждого из нас она оказала глубокое воздействие. Без этого я не мог бы сделать мой фильм так, как я его сделал. Мы научились лучше понимать мир… Я знаю, что Джордж Стивене стал другим человеком после того, как увидел трупы в Дахау. Мы вынуждены признать, что Голливуд почти совершенно не отражает мир и время, в котором мы живем». Эти несколько строк, принадлежащие Уайлеру, достаточно ясно показывают, как он понимал свою задачу при постановке фильма «Лучшие годы нашей жизни».
Известно, впрочем, с какой тщательностью Уайлер готовился к постановке самого большого и дорогостоящего из всех своих фильмов. Однако если бы «Лучшие годы нашей жизни» сводились к гражданственной пропаганде, какой бы умелой, честной, волнующей и полезной она ни была, не стоило бы уделять им столь пристальное внимание. Сценарий фильма «Миссис Миннивер» (1942) в конечном счете ненамного хуже, но Уайлер поставил его, не очень–то вдаваясь в проблемы стиля, и в результате его постигла неудача. В «Лучших годах», напротив, этическая установка на скрупулезную верность реальности получила эстетическое выражение в режиссуре. Нет ничего более ошибочного и нелепого, чем противопоставлять — как это нередко делалось по отношению к русскому и итальянскому кино — «реализм» и «эстетизм». Вряд ли можно найти более «эстетический» фильм в истинном значении слова, чем «Пайза». Реальность не есть искусство, но «реалистическое» искусство — это такое искусство, которое умеет создавать эстетику, составляющую одно целое с реальностью. Уайлер, слава богу, не ограничился сохранением психологической и социальной правды и естественностью актерского исполнения. Он постарался в самой постановке найти соответствующие эстетические решения.
Отмечу для начала реализм декораций, построенных в своем истинном масштабе и целиком (что необычайно усложняет съемки, потому что, для того чтобы осуществить отъезд камеры, приходится убирать часть фундуса). Актеры и актрисы были одеты самым обычным образом, и лица их если и были загримированы, то не больше, чем в жизни.
Конечно, эта почти суеверная забота о бытовой достоверности выглядит в Голливуде особенно странно, и дело здесь даже не столько в том, заметит ли эти мелочи зритель, сколько в тех требованиях, которые они диктуют режиссеру и которые затрагивают и постановку света, и ракурс, и поведение актеров. Реализм определяется не тем, находятся ли на сцене настоящие мясные туши и настоящие деревья (как то было у Антуана); он определяется теми выразительными средствами, которые художник открывает в материале реальности. «Реалистическая» тенденция существует в кино начиная с Луи Люмьера и даже раньше — с Марея и Мэйбриджа. Она развивалась с переменным успехом, но формы, которые она принимала, продолжали существовать лишь в той мере, в какой они были связаны с изобретением (или открытием) новых эстетических форм (независимо от того, были ли эти открытия сознательными или нет). Существует не один реализм, но многие его разновидности.
Каждая эпоха вырабатывает свой реализм, то есть такую технику и эстетику, которые способны наилучшим образом уловить, удержать и воспроизвести то, что нас интересует в реальности. В кино техника, конечно, играет гораздо большую роль, чем, например, в романе, потому что литературная речь довольно стабильна, а кинематографическая образность с самого момента своего возникновения находится в непрерывном движении. Панхроматическая пленка, звук, цвет привели к глубоким сдвигам. Не только словарь, но и синтаксис киноязыка претерпел коренные изменения.
«Монтажное» построение, соответствующее главным образом немому периоду, ныне почти полностью вытеснено логикой раскадровки. Конечно, эти изменения могут отчасти объясняться модой, которая в кино, как и повсюду, играет свою роль, — но все–таки те из них, которые имеют реальное значение и обогащают кинематограф, связаны с техникой, составляющей их базис.
Соблюдать правдоподобие, показывать реальность, всю реальность и ничего, кроме реальности, — что ж, это намерение достойно уважения. Но как таковое оно не выходит за пределы морали. В кино же речь может идти только об изображении реальности. Проблема эстетическая встает перед нами, лишь только мы задаемся вопросом о средствах этого изображения. Мертвый ребенок, показанный крупным планом, это не то же самое, что мертвый ребенок на общем плане или мертвый ребенок, снятый в цвете. В действительности наш глаз и соответственно наше сознание видят мертвого ребенка не так, как это делает кинокамера, заключающая изображение в прямоугольник кадра.
Следовательно, «реализм» заключается не только в том, чтобы показать нам труп, но и в том, чтобы сделать это с учетом определенных физиологических и психологических условий восприятия или, точнее, найти для них эквивалент. Классическая раскадровка, разбивающая сцену на определенное количество элементов (рука на телефонной трубке или на дверной ручке, которая медленно поворачивается), внутренне соответствует определенному умственному процессу, так что мы приемлем последовательность планов, не отдавая себе отчета в их технической произвольности.
В реальной действительности наш глаз, совсем как объектив кинокамеры, фиксируется на той точке пространства, где происходит интересующее нас событие. Исследуя реальность, он как бы переходит от одного пространственного плана к другому, вводя тем самым и определенные временные градации во второй степени — именно через пространственный анализ реальности, которая сама по себе также движется во времени.
Первоначально в кино употреблялись объективы с неизменным фокусным расстоянием, которые давали наводку на резкость на большую глубину, что соответствовало раскадровке фильмов того времени — вернее, почти полному отсутствию раскадровки. В то время не могло быть и речи о том, чтобы разбить сцену на двадцать пять планов и следить за перемещениями актера в кадре, меняя соответствующим образом наводку на резкость. Совершенствование оптики находится в тесной связи с историей раскадровки, будучи одновременно причиной и следствием.
Для того чтобы пересмотреть технику съемок, как это сделал в 1938 году Жан Ренуар, а немного позже Орсон Уэллс, надо было осознать, насколько иллюзорной была аналитическая раскадровка, несмотря на свой кажущийся психологический реализм.
Если наш глаз постоянно переходит от одного плана к другому в зависимости от того, куда направлены наш интерес и наше внимание, то ведь эта умственная и психологическая аккомодация происходит a posteriori. Событие существует непрерывно в своем единстве, и как единое целое оно требует к себе нашего внимания; а уж затем мы выделяем в нем тот или иной аспект под воздействием нашего чувства или рассуждения, хотя выбор одного человека не похож на выбор другого. В любом случае мы свободны и можем строить мизансцену по–своему — всегда возможна иная раскадровка, которая может радикально изменить субъективный аспект реальности. Однако режиссер, осуществляющий раскадровку, производит вместо нас этот отбор и дифференциацию. Мы бессознательно принимаем его анализ, потому что он проводится в соответствии с законами восприятия. Но тем самым мы лишаемся права, имеющего столь же глубокие психологические обоснования, — права в любой момент свободно менять нашу систему раскадровки.
Все это имеет весьма серьезные психологические и эстетические последствия. Особым свойством этой техники является то, что она имеет тенденцию [58] исключать многозначность, имманентную реальности. Она до крайности «субъективизирует» событие, поскольку каждая его частица оказывается результатом предвзятости режиссера. Она, эта техника, не только требует драматического, аффективного и нравственного отбора, но и предполагает — а это еще существенней — определенную позицию по отношению к реальности как таковой. Конечно, было бы крайностью воскрешать в связи с Уильямом Уайлером спор об универсалиях. Если номинализм и реализм имеют свои соответствия в кино, то они определяются не только в связи с техникой съемки и раскадровки. Однако вряд ли можно считать случайностью то, что Жан Ренуар, Андре Мальро, Орсон Уэллс, Роберто Росселлини и Уильям Уайлер в «Лучших годах нашей жизни» сходятся в частом использовании глубинной наводки на резкость или, во всяком случае, «симультанной» мизансцены{59}. Не случайно именно в фильмах этих режиссеров, с 1938 по 1946 год, сосредоточено то, что является действительным достижением кинематографического реализма, что связано с эстетикой реальности.
Благодаря наводке на резкость по всей глубине кадра, в сочетании с одновременной игрой актеров на разных планах, зритель получает возможность самостоятельно произвести хотя бы заключительную операцию раскадровки. Цитирую Уайлера: «У меня были длительные беседы с оператором Грэгом Толандом. Мы решили стремиться к наибольшей реалистичности и простоте. Способность Грэга Толанда легко переходить от одной декорации к другой… позволила мне усовершенствовать мою технику постановки. Так, я могу строить действие, избегая купюр. Возникает непрерывность, планы становятся более жизненными, более интересными для зрителя, который получает возможность по собственному желанию рассматривать каждый персонаж и самому делать купюры».