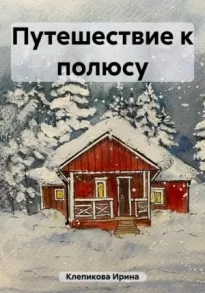Ссыльный № 33
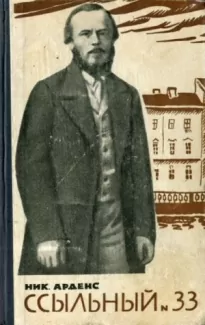
- Автор: Николай Арденс
- Жанр: Биографии и Мемуары / Историческая проза
- Дата выхода: 1967
Читать книгу "Ссыльный № 33"
Из всех этих пылких стремлений можно было заключить, что Федор Михайлович хочет увенчать уже давно им начатое дело, при этом дело, ставшее сегодня главным в жизни, может быть даже единственным, ради которого тратятся лучшие силы ума и чувств. И действительно, не один уже год Федор Михайлович расходует все, без остатка, эти свои силы. Тому лет десять и не менее, еще в отрочестве, а потом в юности, он пристрастился, вместе со старшим братом Мишей, к книгам. И днем и даже по ночам читали они сообща и вслух разные презанимательные истории про капелланов, бенедиктинцев, про «кошмары», «ужасы» и «тайны»… И всевозможнейшие доны Педры и доньи Клары, и разные Альфонсы и Лючии, и иные аглицкие, испанские и итальянские выдумки, вычитанные у Анны Радклиф и прочих пылких сочинителей, «въелись», как он вспоминал, в его голову, и почти что навсегда. А потом к ним прибавлен был сам Шекспир (им уже просто бредил юный Федор Михайлович), потом Шиллер и далее многие-многие любопытнейшие авторы, обольщавшие самолюбие и воображение. Но с особенным жаром он читал и перечитывал ветхозаветное сказание о многострадальном Иове, которого жестоко испытывала судьба, послав ему нищету, болезни и прочие муки и лишения. И так книги стали его неотлучными спутниками дневных занятий и долгих зимних, бедно освещенных вечеров. А с книгами у него крепко соединились картины самой жизни, при этом жизни чрезвычайно и разнообразно суетливой и представленной сочинителями в малейших подробностях, то с фантастическими событиями, то с самоотверженными порывами, столь возвышавшимися над всей земной скудостью, то с неоглядными мечтаниями о вечной заре и незаходящем солнце. И какие чудесные мгновения переживал он и все думал: вот бы быть и мне сочинителем, вот бы и мне написать что-нибудь из венецианской, например, жизни, какой-нибудь этакий хитрый и затейливый роман о венецианках и венецианцах… И он что-то все про себя нетерпеливо писал, все грезил о поэтах и страстно, безмерно порывался стать сочинителем. Да и впрямь в душе его пылал огонь, и вырастал он как уже вполне отдавшийся воображению и разным затеям сочинитель, — так по крайней мере думал его брат Миша. Какая-то сила мгновенных объяснений и выводов рвалась из его горячей груди. Какой-то кипящий источник мысли уже оживлял все его существо.
Федор Михайлович с жадностью поглощал исторические и фантастические сочинения и чего-чего только он не запомнил, и в прозе и в стихах! И Карамзина, и Нарежного, и Пушкина, и Жуковского, и Вальтер Скотта, и многих-многих прочих знаменитых сочинителей. Сказка Ершова о Коньке-Горбунке и фантастические баллады Жуковского были до конца выучены наизусть, а «История государства Российского» стала уж прямым настольным сочинением.
Но ко всем этим юным привязанностям Федора Михайловича надо добавить немаловажные и даже, быть может, сокрушительные события самой жизни, обеспокоившие рано встревожившийся ум и так властно воздействовавшие на направление самих целей и понятий его. Он был чрезвычайно, непомерно озабочен мыслями о живых людях и чувствительно переживал их печали и всякие удары судьбы. Невыразимой тоской и состраданием проникался он, глядя на деревенских детишек под Петербургом, бегавших по грязным улицам в прохудившихся, засаленных одежонках с голыми локтями и мотавшимися на ниточках пуговками. И женщины и мужики в деревнях, через которые он с Григоровичем проходил, еще учась в Инженерном училище, вызывали у него совершеннейшую потерю покоя — так страшны и безрадостны были рассказы стариков и молодых крестьянок. За самыми ничтожнейшими знаками жестокости, виденными им, тотчас следовали его возмущение и раздражение. Не раз ему доводилось наблюдать, как по Лиговке переходили под конвоем многочисленные тюремные обитатели — арестанты в потемневших от грязи полотняных штанах и куртках, — и при этом волокли за собой кандалы, громыхая ими и звеня. Федор Михайлович с дрожью в голосе, останавливаясь перед мрачным шествием, восклицал: «Да кто посмел опутать человеческие ноги цепями? Кто дал такие права? Да у людей ли все это делается?» Как-то по пути в Петербург, куда его вместе с братом Мишей вез отец для определения в Главное инженерное училище, он увидел, как некий детина фельдъегерь бил кулаком молодого парня — ямщика, понукая и торопя его, и как этот парень в те же такты бил кнутом по лошадям. И каждый удар по лошадям следовал за каждым ударом по человеку. Потрясенный этой свирепой картиной, Федор Михайлович решил, что если он когда-либо откроет «филантропическое» общество, то на печати его как некую его эмблему велит вырезать виденную им на станции под Петербургом вот эту «курьерскую тройку».
У Федора Михайловича не было решительно никакого пристрастия к математическим наукам, — он бредил поэзией: в поэзии была заключена жизнь, а жизнь возбуждала к себе величайшее внимание начинающего сочинителя, чувствовавшего в себе поэтические силы и носившегося уже с идеями непременного человеческого счастья. И вот сейчас он и пребывал в таком экстазе творчества. Он страстно хотел заявить о себе как о сочинителе. Вместе со своим приятелем по Инженерному училищу Николаем Шидловским, еще живя в «замке» Павла I, он все разбирал отечественные и заграничные образцы поэзии, прозы и драмы и что-то уже сочинял, какие-то даже трагедии о Борисе Годунове, о Марии Стюарт, а сейчас в руках у него был уже целый роман, причем роман как раз о том, с чем он более всего в жизни уже столкнулся, — о человеческой несправедливости и униженности, ничем не опороченной, а, наоборот, выступившей во всех высоких помыслах и чистейшей любви.
Перечитывая и в сотый раз перемарывая страницы своей рукописи, Федор Михайлович пребывал в тревоге авторских чувств. «Что станется с моим писанием? Какова судьба и кто, кто примет все, что выношено в душе и скрылось в этих листах?» — суетились мысли в молодом и самолюбивом воображении. Он уверял себя, что его роман — не зря брошенные слова, что это немалая придумка и стоит она немалого внимания. А в иные минуты его охватывали жгучие сомнения: «Придумочка-то действительно немалая, да найдутся ли люди, которые поймут ее и признают?! Ведь у каждого свои претензии и свои фантазии… Да мало ли еще на свете завистников и недоброжелателей!» И не было конца взбудораженным чувствам Федора Михайловича. И все вокруг казалось ему сумрачным и коварным.
Терзаясь собственной неустроенностью, он беспокойно смотрел на свою унылую комнату, на дымчатые и отставшие по углам обои, на свой широкий письменный стол, на котором с вечера были оставлены стакан чаю и тарелка с куском холодной говядины. А этот двор — гадчайший и мизернейший двор!.. Нет, он не выживет здесь ни одного дня, если грянет катастрофа и его роман ошельмуют всякие редакторишки…
Он готов уже отказаться даже от славы. «На что мне слава!» — рассудительно и успокоенно порой думал он. Он совсем не посягает на Гоголя. Пусть Гоголь получает хоть по тысяче рублей серебром за лист. Ему бы только долги выплатить.
Ночь уже была на исходе. В комнате становилось совсем светло. Он присел на диван, прижавшийся к углу, как вдруг задребезжал звонок. Федор Михайлович вскочил и пошел к двери.
На пороге стоял Григорович, а сзади него Некрасов, в серой шинели и в темной широкополой шляпе.
Федор Михайлович не успел и слова вымолвить, как был схвачен объятиями Некрасова, а за ним и Григоровича. Некрасов с жаром сжал его плечи и несвязно пролепетал что-то восторженное. Оказалось, вместе с Григоровичем они весь вечер читали по рукописи «Бедных людей», и чем дальше читали, тем более разгорались любопытством.
Григорович, поглядывая на него и будучи не в силах от волнения стоять на одном месте, расхаживал по комнате, потирая ладонь о ладонь, и уверял:
— Да этак писать под стать самому Гоголю. Тут что ни слово, то перлы, без всяких подделок. Из самой души.
Федор Михайлович взволнованно дышал, ощущая свое собственное торжество. Щеки его раскраснелись. Но слова не шли из горла.
Некрасов и Григорович стали сравнивать «Бедных людей» с «Мертвыми душами» и «Шинелью», но внушительнее всего было сказано про Белинского, которому надо-де немедля показать новый роман и объявить о новом сочинителе.
— Сегодня же снесу ему вашу повесть, — заключил на прощанье Некрасов, подергивая ямкой левой щеки. — Вы увидите — да ведь человек-то, человек-то какой! Вот вы познакомитесь, увидите, какая это душа. — Некрасов еще раз потряс Федора Михайловича от избытка удовольствия: — Ну, теперь спите, спите. Я ухожу, а завтра — к нам. Немедленно к нам.
Некрасов ушел, а Григорович все никак не мог успокоиться и рассказывал своему сожителю, как он привел Некрасова в такое смятенное состояние:
— Стали мы читать рукопись и решили — с десяти страниц видно будет. Прочитали десять — и не заметили, как прочли вторые десять. Так до четырех часов и просидели. Николай Алексеевич читает про смерть студента, и вдруг я вижу, в том месте, где отец бежит за гробом своего сына, у него голос прерывается, раз и другой, и вдруг не выдержал, стукнул ладонью по рукописи: «Ах, чтоб его!» Это про вас-то. И этак мы всю ночь. А когда кончили, то в один голос решили прямо к вам идти. Некрасов боялся, кабы не растревожить вас среди сна, а потом и сам сказал: «Что же такое, что спит? Мы разбудим его. Э т о выше сна!»
Федор Михайлович был подавлен и смят. До сна ли было после таких похвал!
— Нет, — до чего дошло! У иного успех… Ну, хвалят, встречают, поздравляют, а ведь эти прибежали, со слезами, в четыре часа… Разбудили, потому что э т о выше сна… Ах, хорошо! — с упоением говорил он самому себе.
Сразу менялась вся картина жизни. Роман печатается. Он выступает со своим словом, становится на деле (не в мечтах же только!) сочинителем. Е г о читают, его слушают. Он — пусть чуточку — но приблизился к Гоголю. Он уже вполне верит в свое назначение, в свое сочинительство. Да ведь это же вся цель жизни! Тут найден весь путь! А помимо всего он выплачивает за квартиру и летом едет в Ревель, к брату. А там новые и новые замыслы. И снова деньги. И всем долгам при этом конец.
Он лег на диван и расстегнул китель. Не то ему слышался гром музыки, не то океан своими волнами обступил его со всех сторон…
— Нет, что же это такое будет! — рассуждал он про себя. Неужто все подписано? — Пульс у него так стучал, как будто он только что нашел фантастический кусок золота и бежит по переулкам — скорей рассказать о небывалой находке.