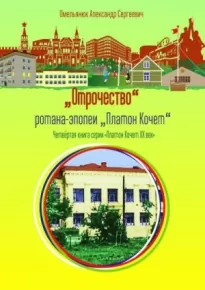Три куля черных сухарей
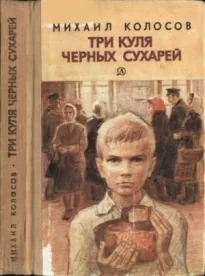
- Автор: Михаил Колосов
- Жанр: Детская проза
- Дата выхода: 1986
Читать книгу "Три куля черных сухарей"
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Отца Гурин вспомнил неожиданно, даже вздрогнул, как от толчка. Оглянулся — никого. Подвигал плечами, словно пиджак стал тесен, уставился на витую, будто веревка, воду ручейка, задумался.
Весело поблескивая, ручеек катился с огорода, где дотаивал грязный ноздреватый снег, и по канавке, проделанной Гуриным, убегал на улицу.
Гурин понял, почему вдруг вспомнился отец. Давно, много лет тому назад, он, тогда еще пятилетний пацаненок — Васька, возился вот так же у вешнего половодья: расчищал вымоину от ледяного крошева и прилаживал бумажную крыльчатку, хотел заставить воду крутить ее. Но бумага быстро намокла, и крыльчатка превратилась в бесформенную массу. Вышел из хаты отец, увидел его затею, сказал:
— Эх, Васька, Васька… Бумага — материал не прочный. Из дерева лопастное колесо сделай — вот тогда дело будет.
И не выдержал, поставил на завалинку железный сундучок, в котором носил себе в депо еду, метнулся в сарай и долго гремел там деревянными чурками и разными железками — искал что-то. Наконец нашел большую жестяную банку из-под халвы, кивнул Ваське:
— Железную мельницу сделаем…
Складным ножом вырезал из банки круглое дно, выровнял его молотком и принялся ножницами надрезать края. Надрезы делал небольшие, сантиметра на два от края. Работал он быстро — железо в его руках было послушным, только чуть похрумкивало под острыми лезвиями ножниц. Кончил надрезывать, принялся плоскогубцами отгибать лопасти. Схватит «губами» лопасть и отвернет ее на четверть оборота — поставит перпендикулярно кружку́, тут же другую хватает, крутит. И так до самой последней: ощетинил донышко — на тракторное колесо с шипами стало похоже. Потом пробил гвоздем дырочку в центре и насадил на железный прут.
Пяти минут не прошло, а он уже пристроил лопастное колесико над бурлящим ручейком и заулыбался довольный, когда оно завертелось и замельтешило против солнышка белыми искрами лопастей.
— Втулочку надо сделать, а то дырочка разработается, колесо будет валиться набок. Но это я завтра сделаю. — И стоял, не уходил, любовался «мельницей», медленно вытирая руки паклей.
На голос вышла мать, закрутила головой, пристыдила отца:
— Играется! Ребенок! На работу опоздаешь.
— Ничо, успею, — сказал отец, беря сундучок.
И Васька видел, с какой неохотой отец уходил из дома, как ему хотелось остаться и сделать для колеса втулочку.
Но он ушел. Ушел и не вернулся… С работы отца послали уполномоченным в колхоз — перед посевной. А там кулаки ночью подкараулили его и избили.
Последний раз Гурин видел отца в больнице, где он, корчась от боли в животе, умирал в муках…
Первое лето без отца прошло как-то незаметно, в суете. То хату перестраивали — это еще отцова была затея; дядья — материны братья и отцов брат Карпо — помогли, сделали хату. То огород убирали — картошку копали, свеклу. Особенно в тот год уродилась почему-то тыква. Такие тыквины вымахали — как валуны лежали на огородах, сизые, гладкие. Васька не мог даже с места сдвинуть такую тыквину. Подпер плечом, уперся ножонками в землю, пыжился, тужился, а тыква ни с места. Пришлось Карпа на помощь звать. Тот пришел, долго курил возле «валунов», качал удивленно головой:
— Вот это гарбузы так гарбузы! Это ж надо — как оно в природе бываеть: какой год на што горазд. Один — на дождь, другой — на сушь; один — на яблоки, другой — на пшеницу. А этот — на гарбузы. Вот и угадай, когда што сеять… — Он похлопал широкими ладонями прохладные гладкие бока тыквы и покантовал ее с огорода в сарай.
Их и было-то на огороде всего десятка полтора таких великанов, но Карпу пришлось попыхтеть изрядно, пока все уложил в угол. Вышел из сарая, отряхнул ладони.
— Ну а с этими вы и сами управитесь, — кивнул он на разбросанные по огороду желтые, зеленые, полосатые, круглые, продолговатые, величиной с Васькину голову, тыквины. — Шо ж будешь с ими делать? — спросил он у матери. — Поросенка надо покупать — корм есть. Или продавать…
Но мать ни поросенка не купила, ни тыкву не продала. Сами справились с нею, то кашу варили, то так кусками парили или в духовке пекли — ели с удовольствием. После, когда пришла весна тридцать второго, вспоминали эти «гарбузы» и слюнки глотали.
А весна в тридцать втором была трудная, голодная. Наверное, пришлось бы и им сусликов попробовать, как Солопихиным, если бы мать не устроилась в больницу сиделкой.
Отца своего Гурины вспоминали часто и, вспоминая, плакали. Мать станет, бывало, рассказывать о нем — какой он был хороший: и не пьяница, и не картежник, как другие; душевный был, добрый, чуткий и мастеровой; руки у него были золотые: табуретку ли сделать, дно в ведерко вставить или часы починить — все мог, все умел, — станет мать обо всем рассказывать, сама плачет и детей разжалобит до слез.
Поначалу, помнится, Васька больше всего жалел, что не удалось пойти с отцом на первомайскую демонстрацию. Отец обещал ему, и он уже представлял, как вместе с деповскими рабочими будет идти по нарядным улицам и петь песни под духовой оркестр. Готовились к празднику заранее: отец купил себе новую кепку-шестиклинку с матерчатой пуговкой на макушке, а Ваське припасли бескозырку с золотыми якорями на лентах и золотым словом на лбу — «Моряк». Но праздника не получилось…
Задумался Гурин, прошептал машинально: «Детство…»
А ручеек все бежал и бежал, прозрачная вода в нем закручивалась в хрустальную веревочку, тихо журчала на маленьком порожке-перекате, искрилась против солнца разноцветным битым стеклом.
Докуривая сигарету, Гурин сделал глубокую затяжку и бросил окурок в ручеек. Клубочек пара с шипением взлохматился над водой и тут же растаял, а окурок, толкаясь о льдистые берега, понесся вниз по течению. Гурин проследил за ним какое-то время и направился в дом. Но в сенях он не пошел в комнату, а открыл скрипучую дверь чулана и остановился, поводя вокруг глазами. В чулане было сыро и прохладно, стоял тяжелый, затхлый дух старой бумаги. Большие пачки ее — школьные учебники, тетради, письма, альбомы, какие-то свертки, газеты, связанные и россыпью, — покоились на широких полках. Гурин увидел связку знакомых писем, потянул с полки. Письма эти были его, он писал их матери с фронта. Развязал, развернул один, другой треугольничек, прочитал и почувствовал какую-то неловкость: веяло от них юношеской бодростью и неумело, по-детски плохо скрытым страхом перед той обстановкой, в которой он тогда оказался. И почерк какой-то еще детский, и слог неестественный, будто чужой. Однако, прочитав одно, другое, увлекся, нахлынули воспоминания…
Из раздумья вывела мать. Она толкнула его в плечо:
— Сидишь?
Гурин вздрогнул, смутился, привстал. Посмотрел на мать — совсем седая, с большими черными впадинами под глазами, она глядела на него и улыбалась, как маленькому ребенку.
— Я так и знала, что ты сидишь в чулане. Где же еще? Как приедут, так в чулан, тут у вас интерес…
Гурин кивнул на полки:
— Почему вы не выбросите весь этот хлам? Учебники старые, тетради?..
— А зачем? Мне оно не мешает, а вам все это дорого. Я ж говорю, приедете — что один, что другой, в чулане у вас главный интерес. Алеша тоже, как и ты. Приедет, походит по комнате, по двору, посмотрит, а потом исчезает. Значит, думаю, в чулане застрял. Погляжу — так и есть: сидит, книжки, тетрадки перебирает, письма читает, рисунки разглядывает, карточки. Что-то откладывает в сторонку — ненужное. Выбросит, а я соберу да опять в чулан. Другой раз снова перебирает. Гляжу — уже что-то другое откладывает. А то, что прошлый раз выбрасывал, теперь в карман кладет — с собой увезти хочет.
Улыбнулся Гурин:
— То-то я вижу: кое-какие письма я как будто выбрасывал, а они снова здесь…
— Здесь, здесь, все тут, — торопливо заверила его мать. — Не могу я это выбрасывать — это все ваше. Ваше детство, ваша жизнь — все тут. Я другой раз думаю, может, этот хлам вас лишний раз домой притянет. Да мне и самой интересно. Начну уборку делать, влезу в эти бумаги да и застряну на цельный день: перебираю, смотрю, вспоминаю. Это вот, Вася, ты паровоз нарисовал на газетном листе. ФД — большой паровоз был, такие уже и не бегают, все больше электровозы да тепловозы… А это вот Алешины рисунки, когда он учился на художника… Танины фотокарточки, когда она уже заневестилась. Письма читаю. Особенно вот эти, твои, с фронту мне дороги — плачу над ними всякий раз. — И пальцем пригрозила: — Ты уж эти не трогай — не выбрасывай. — Спросила: — А рази тебе не интересно? Ты ж вот что-то вспомнил?
— Да… Отца. Забыл его лицо, хотел найти фотографию. Сохранилась?
— Есть, — мать открыла нижний ящик старого шифоньера, достала оттуда пачку бумаг, перетянутую бельевой резинкой, развязала, стала перебирать пожелтевшие карточки. — А эту вот рази тебе не хочется посмотреть? Это какой класс?
Гурин взял карточку, всмотрелся в давние лица, некоторые с трудом ожили.
— Восьмой…
Свет, падавший в чулан, кто-то неожиданно заслонил, Гурин оглянулся и увидел на пороге крестную.
— Вы че это в чулане схоронились? Сухари перебираете нешто? — пошутила Ульяна и засмеялась добродушно.
— Не, не сушим, — сказала мать. — Все одно на всю жизнь не напасешься.
— А я нет-нет да и иссушу какой завалящий кусочек, да и брошу в чувал — нехай лежит, он есть не просит.
— Отца вот вспомнил… Посмотреть хочет… Карточку шукаем.
— Отца… — погрустнела Ульяна. — Я вот тоже уже не помню его, какой он был… Встретился б на улице — не узнала, ей-богу.
Гурин разглядывал школьную фотографию, улыбался чему-то.
— Шо там? — спросила мать.
— Так… Розу Александровну вспомнил. Красивая была!
— Твоя любовь, — напомнила мать. — Чуть из-за нее с учителем не подрался.
— Это из-за этой заразы? — удивилась Ульяна. — О, она тут давала жизни при немцах, штоб ей пусто было. — И рассказала: — Ото ж, как пришли немцы, она сразу стала переводчицей в комендатуре. Форму немецкую надела. Красивая была, ничего не скажешь. Ездила с комендантом в тарантасе. В пилоточке, в хренчике… Юбочка узкая, коротенькая, коленками все светила. С немцами и уехала. Она ж сама немка, так што ж тут… Они ей свои были.
— А Александр Федорович Куц?
— А Куц… как ушел в первые дни на войну, так и не вернулся. Слух прошел, будто погиб.
— Н-да… Дела… — ухмыльнулся Гурин. — А это вот Жек Сорокин, мы дружили с ним. Война в первый же день развела нас по разным дорогам. Как он?
— А я рази не писала тебе? — спросила мать. — В прошлом году схоронили. Выпивал с каким-то мужиком, заспорили, задрались, а тот и ударь Жеку бутылкой по голове… Сутки помучился в больнице, и все. Две девочки остались…
— Жаль. Талантливый был парень… — Гурин закусил губу, ему сделалось не по себе от услышанного — будто он был чем-то виноват в Жекиной трагедии. Он догадался: мать нарочно не написала ему об этом, знала, что это его расстроит.
— Вот тебе и талан! — подхватила Ульяна решительно. — Талано́м тоже надо уметь распоряжаться. А шо толку, если талан дураку достался? Так и спился со своей гармошкой, срамно смотреть уже было на него, как побирушка стал. Ей-богу, мне дак и не жалко его…