Скорая развязка
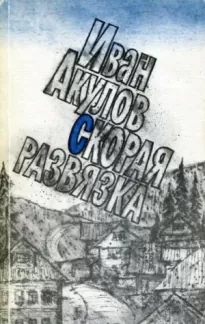
- Автор: Иван Акулов
- Жанр: Драматургия / Советская проза
- Дата выхода: 1989
Читать книгу "Скорая развязка"
Под напев пенькозаводского гудка, будившего округу в пять утра, спать, конечно, не могли ни кудрявые, ни лысые. Значит, песня была сложена о каком-то другом гудке и другой кудрявой, которую Степка представлял себе лохматой, заспанной и обленившейся.
Постепенно класс настраивался на веселый, рубящий такт, голоса сливались в единую сильную и режущую октаву, и, когда раздавался звонок с урока, ребята, возбужденные дружной песней, готовы были к безудержному озорству.
Однажды Степан заметил, что Ульяна Солодова, его соседка, тоже не поет песню, а с тайным усердием списывает из тетради Амоса Амосыча в свою тетрадь какие-то ноты.
— Зачем это ты?
Ульяна так и просияла, будто давно ждала этого вопроса, и доверительно втихомолку открылась:
— Я же с первого класса учусь на скрипке. А это Глазунов. — Она повела глазом на тетради. — Слышал такого композитора?
— Так у тебя что, и скрипка своя?
— Дедовская еще. Но Амос Амосыч хвалит. Отменной-де работы инструмент.
— Как ты назвала композитора-то?
— Глазунов. Небось и не слыхал?
— Глазунов, — повторил Степка, что-то вспоминая, и вдруг вскинулся: — Слушай-ка, а у меня есть портрет этого самого Глазунова. На открытке. Хочешь, принесу тебе?
— Принеси. Только взять я не возьму. От мальчишек ничего нельзя брать.
— Глупая, а говоришь еще: на скрипке учусь.
— Да коли назад не попросишь, могу и взять. А что взамен?
— Барыга я, что ли, по-твоему? «Взамен»!
На другой день Степка принес открытку с портретом Глазунова. Композитор был нарисован почти в полный рост, в длиннополом застегнутом только на одну верхнюю пуговицу сюртуке, правую и узкую кисть руки держал на кармашке жилета. Был он совсем молод, с короткой ребяческой прической, и только припухшие губы были едва обметаны робко пробившейся порослью. Но в широко поставленных глазах его светилась напряженная и живая мысль. Его тонкая рука, выписанная художником, тонкое белое лицо, маленькие уши несомненно выдавали в нем хрупкую, чуткую и доверчивую душу. Ульяна не стала долго рассматривать портрет Глазунова, опрокинула открытку в каком-то явном смущении: всю ее охватило тайное и горячее желание — скорей остаться совсем одной, чтобы хорошенько разглядеть поразивший ее юношеский образ задумчивого композитора.
Степанова открытка с давних пор лежала в материной шкатулке вместе с письмами и фотографиями, а на обратной стороне ее кто-то бисерным почерком поздравлял с рождеством Христовым какого-то Фоку Перехват-Савина. Открытка пожелтела от времени, от нее веяло лежалой давностью, и это решительно убеждало Ульяну в том, что у нее будет большое и близкое знакомство с великим композитором, музыка которого нравилась ей, а теперь она должна полюбить его самого: она давно искала такой любви.
На другой день Ульяна призналась Степану:
— Я теперь всего его выучу и стану хорошо играть. Знать бы раньше.
— Влюбилась небось? Вы, девчонки, какую ни возьми, та и бредит то музыкантом, то артистом, а то и учителем, на худой конец. Блажь, иначе не скажешь.
— Это ведь, Степа, любовь-то далекая, несбыточная, — открылась Ульяна, не сумев утаить своего стыда и счастья.
— Как бы примерка, что ли?
— Пусть и примерка. Да ведь ваш брат, Степа, мальчишки, тоже не уступят. Ты сказал, и я скажу: далеко не надо ходить, из вас каждый второй помешан на немочке, Анне Григорьевне. Скажи, не так?
— Как-то и узнала.
— А вот и узнала, Степа, и вот крест, не осуждаю: она старше и очень красивая. Ты вот видишь и вертишь головой, а присмотрись к ней, и еще неизвестно, что с тобой будет.
Поначалу Степан легко отмахнулся от слов Ульяны, но чем больше проходило времени, тем острее осознавал он их навязчивую силу. Ему хотелось чаще видеть Анну Григорьевну и в чем-то довериться ей, ближе узнать власть ее красоты, а в том, что она красивая, Степан верил, и не столько себе, сколько Ульяне, которая в красоте, дай бог, умеет разбираться.
Степан давно уже переживал наслаждение подглядывать за молодыми женщинами, но чтобы думать об одной, — этого с ним не бывало. Он не изменил своего отношения к немецкому языку, но перед каждым неподготовленным уроком впадал в угнетенное состояние и нервничал.
— Где задано-то? — совался он к Ульяне перед приходом немки.
— Да вот же. Не читал, что ли?
— Читал бы, так не спрашивал.
— А испугался-то, батюшки-светы.
Генка Вяткин, карауливший Анну Григорьевну в дверях, блеснул глазами и заорал шепотом: «Идет!» Побежал на свое место, но Седой, не отрываясь от учебника, подставил ему ножку, и тот упал, а оправившись, прошипел:
— Уу, переросток.
Пришла Анна Григорьевна, молодая, праздничная, вся нездешняя, с высокой и тугой короной на голове из заплетенных в косы густых волос. Не положив на стол принесенных с собой книжек, строгим взглядом больших серых глаз обвела ряды парт и поздоровалась:
— Гутен таг.
Ребята отозвались вяло, потому что не особенно радовались урокам немки. Она, работая в школе первый год, боялась отступать от программы и учила детей не разговорной речи, а правилам грамматики. Дети, не зная ни единой фразы на чужеродном языке, неохотно зубрили инфинитивы и перфекты глаголов, которые без запаса слов и практики тут же и выветривались из памяти без всякого следа. Нелегко и Анне Григорьевне давалась школа: с детьми у ней не было надежной связи и доброго тонкого взаимопонимания. Уроки они готовили плохо. Все это раздражало учительницу, порою делало резкой, сердитой, несдержанной. Девчонки иначе и не называли ее как злюкой.
А Степан Прожогин без особого усердия одолевал немецкий и любил Анну Григорьевну. Он не отдавал себе отчета в своих чувствах, не мог знать их глубины, но любил ее лицо, ее округло и выразительно собранные губы, когда она произносила гласные, любил ее сердитый и холодный взгляд, любил ее смущение, которое она испытывала в минуты волнения за свои изъяны в русской речи. За зиму Степа несколько раз видел Анну Григорьевну на лыжах: румяная от мороза, в тонких валеночках, брюках и вязаных белых же варежках, она совсем казалась ему девчонкой, и он думал о ней с такой близостью, что у него обносило голову. На уроках он в упор разглядывал ее своими нестыдными глазами и забывал все на свете. Ему вспомнилось, что он уже переживал все это в какие-то свои далекие, незапамятные, но сладкие минуты. Ему хотелось иногда прижать к себе те вещи, к которым прикасались ее руки. И вот однажды, бойко отвечая урок, он вдруг споткнулся на пустяке и так посмотрел на нее, что она почувствовала взгляд его и смешалась сама. С этих пор он знал, что ей известна вся его душа, все мысли и все его чувства, и стал бояться какой-то нехорошей развязки. Однако любить Анну Григорьевну уже не мог перестать, только глубоко затаился. «Как есть, пусть так и будет. Рано или поздно все должно объясниться само собой, неведомо, без слов, как бывает во сне. Совсем без слов».
Анна Григорьевна, вероятно, по молодости боялась, что ребята не будут слушаться ее, и потому была к ним излишне строга, взыскательна, не допускала с ними ни шуток, ни даже улыбок. Степану особенно нравилась она такая, по его заключению, никому не доступная на всем белом свете. Он, как бы подражая ей, сам почти перестал баловаться, часто напускал на себя мрачность, хмуро глядел не только на ребят, но и на взрослых. Наблюдая за учителями, в мыслях непременно ставил их рядом с Анной Григорьевной и равных ей не находил. Зато ловко придумывал им самые беспощадные клички.
Учительница зоологии, Мария Семеновна, чуть-чуть постарше немки, но выглядит пожилой теткой и одевается по-старушечьи: сама высокая, нескладная и юбки носит тяжелые, длинные, подол их вечно заплетается в ногах. Прямые волосы не прибраны, гребенка в них воткнута боком, кое-как. Лицо тоже длинное, с пятнами после заживших прыщей. Когда Мария Семеновна взмахом головы откидывает упавшие на глаза волосы, лицо у ней молодеет, — Степе она в такие минуты кажется красивой, и он беспощадно жалеет ее: «Вот кто ее полюбит, несчастную, а если и возьмет какой — запоем пить будет из-за нее. Дранощепина».
К директору, Василию Петровичу, Степан тоже был беспощаден, потому что, когда тот приходил на урок к Анне Григорьевне, она заметно робела, терялась и в русских словах особо заметно портила шипящие:
— Тшитайте с натшала и без перевода.
Василий Петрович — сухопарый и востроглазый старик, с жесткими, сердитыми усами, заточенными наостро, тонкими, хрупкими височными костями, голос имел зычный, с перекатами, и казался всегда гневным и угрожающим. Приходя на уроки, обычно садился на заднюю парту, и никто не смел оглянуться в его сторону. В классе стояла гнетущая тишина. «Прижались все как пичуги перед сычом», — думал Степан и весь урок переживал за Анну Григорьевну, на которую сыч потом будет непременно выкатывать свои остудные глаза.
У Евгении Матвеевны, географички, за последнее время заметно высоко поднялся живот, а лицо опало и сделалось совсем синюшным; все зубы у ней тоже выступили вперед, и по ним некрасиво обтянуты истончившиеся губы. Но Степану нравится ее беременность, он ненасытно наслаждается, глядя на нее, и вместе с тем стыдится и мучается для всех открытой ее тайной. Но зубы Евгении Матвеевны раздражают Степку, и на язык ему само собой подвернулось неуклюжее название острова — Хоккайдо.
На прозвища Прожогин был мастер, но ничего не мог придумать, когда дошла очередь до немки Анны Григорьевны: он искал в ее характере, одежде и лице что-то такое, что бы хоть капельку могло оконфузить ее, и ничего не находил. А с ума не шли только ласковые для нее слова, от которых ему самому порой становилось неловко. «Славная. Славная. Непонятная…»
И вдруг вспомнил…
Нынче на покосе в отъезжих лугах, как-то уж к вечеру, Степан ворошил траву и прилег на копну свежего сена, хотел полежать, да задремал. А разбудили его чьи-то потаенные голоса и вроде придушенный смех. Он прислушался и узнал сельповского заготовителя Пряжкина, рыжего рукастого парня, который уже давно отслужил на флоте, но не снимал с себя тельняшки и, гордясь ею, всегда ходил с распахнутой грудью, — по вырезу тельняшки билась наружу плотная, густая, черная шерсть. Он никак не мог жениться, и бабы в поселке судачили о нем как о бросовом, негодном для семьи человеке: моряк — с печки бряк. Пряжкин лежал под копной и уласкивал кого-то тихим шепотком, коварно ползущим под шумок необмятого сенца.
— Дурочка ты, Олька. Да не буду, не буду. Ну? Сказал же.
— А сам-то…
— Дурочка — вот и сам.
— С дураков меньше спросу, — залилась Ольга мелким благостным смешком и, видно, хотела, но никак не могла рассердиться, лепетала, балуясь: — Опять же, опять. Убери давай.
Началась тихая согласная возня, и у Степки захватило дух. Боясь выдать себя, тихонько сполз с копны и, не оглядываясь, пошел к становью, где горели костры и пахло вкусным вечерним дымком.
— Это Дашкин идол, — услышал он за своей спиной негодующий женский голос, который тут же захлебнулся радостным испугом: — Ой ты, как смажу. Совсем влопались было.
Степка и раньше видал круглую, улыбчивую Ольгу — она жила невдалеке от Прожогиных, — но никогда ничем не отличал ее от других — мало ли их, шабров, — в поселке, считай, все соседи, однако с этого вечера она надолго сделалась для него тревожной и горькой загадкой.

![Светлые мысли и ночи [Светлые мысли и дни]](/uploads/covers/2023-08-06/svetlye-mysli-i-nochi-svetlye-mysli-i-dni-201.jpg-205x.webp)



