Скорая развязка
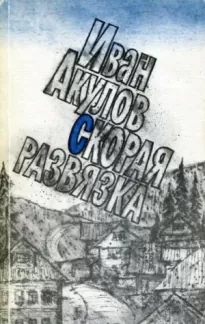
- Автор: Иван Акулов
- Жанр: Драматургия / Советская проза
- Дата выхода: 1989
Читать книгу "Скорая развязка"
Вечером при свете керосиновой лампы Степка налаживал ходики, привязав к чугунной гире молоток и ножницы — без довеска они совсем не тянули, а с грузом начинали громко стучать, маятник у них суетно и с перекосом мотался из стороны в сторону, но внутри все равно что-то заедало, и часы, потеряв такт, то и дело спотыкались.
Мать вернулась поздно, потому что после фермы выстояла в лавке очередь за селедкой: давали по четыре головы в руки, только и хватит сорвать охотку. Но продукт редкий, лакомый, хорош и помалу.
— Что окна-то не задернул? Сидишь ровно на сцене. — Она, не раздеваясь и даже не поставив сумку с покупками, задернула шторки. — Печку истопить не додумался? Сейчас на углях картошки бы напекли. Селедку давали в кои-то веки.
Она весело раздевалась, растряхая по избе запах коровника и стылой соломы. Уйдя на кухню, изумилась:
— Да у тебя и картавка сварена. В мундирах. Ну, молодец. Давай собирать на стол. Отелы начались, Степка, — говорила она без умолку. — Вот и слава богу, до весны доживем. Туесок с луком захвати. Боже праведный, не помню уж, когда ели селедку. Пока стояла, слюной изошла. Солененького поедим, чай дуть станем. Али не жизнь!
Когда сели за стол и начали свежевать картошку, мать объяснила свое хорошее настроение:
— Скажи спасибо матери-то. У ней и без того забот, хоть спать не ложись. Да и ты еще. Сейчас в очередь вместе с Василием Петровичем выстояли. Сколя же он вежливый да обходительный, Степка! Ведь директор, а все так слово по слову. Сироты, говорю, мы, Василь Петрович. А в самом-то деле, не они, что ли, — подтвердила мать Дарья, перехватив хмурый несогласный взгляд сына и заговорила с привычной материнской строгостью: — А перед немкой повинись. Авось не убудет тебя.
— Да нет, мам. Я ведь к дяде Ефиму сходил. Сходил-то? Заявление мы с ним написали директору лесхоза. Завтра выходить в делянку, рубить метлы и черенки к лопатам. План у них трещит. Мне с топором дело бывалое, ловкое — двести процентов запросто. Прошлым летом, вспомни-ко, я больше Ефима зашиб, а уж похвал-то было! Сидеть на твоем хлебе хватит, думаю, не до седых же волос.
— Думает он, ты лучше — учись, пока я на ногах. Нешто я тебя на куске оговариваю. Ведь Василий-то Петрович сказал мне, способный-де ты. А Анна Григорьевна уж и забыла все. Мало ли вы там выкамариваете, так все и помнить. Она, говорит Василь Петрович, немочка-то ваша, в переживаниях, что ты в школу перестал ходить. С нее тоже спрос. Вот они, Степа, добрые-то люди. Тут не то повиниться, в ножки упасть мало. Понял ли теперь-то?
— Она добрая, я знаю. И все помнит. Все. А потому, мам, и не могу видеть ее. Но дай срок, выровняюсь и встречусь с нею на равных.
— Да какая ты ровня-то ей, чумной? Без ученья-то, Степа.
— Далось тебе это учение. Я работать стану — заметят, на Доску почета повесят. Может, в газету попаду, чего хитрого-то, — передовик, ударник, стахановец. Не ровня, что ли? А ты затеяла: ученье, ученье. Мы тоже не в угол рожей.
Легкими и забавными казались матери Степановы рассуждения, потому что верила она только в свою житейскую правду, от которой никому, и сыну ее, конечно, никуда не уйти, и слушала его с ужимочкой на губах.
— Я ведь знаю, над чем ты посмеиваешься. — Степан пошевелил бровями и залился румянцем. Мать вынудила его сказать самое сокровенное, что давно томило и обольщало его: — Если хочешь знать, так я не о таком равнении-то думаю, чтобы вытягиваться перед нею на цыпочки. Возьми ты наш поселок, от Казенкиных и до самой станции. Найдешь ты хоть одного парня, чтобы казистый был из себя, годился бы и по уму для наших девок. То вот такой жердяй, то совсем такесенький — шапкой уронишь, — Степан сперва высоко вскинул ладонь, потом уровнял со столом. — А мослы у всех кобыльи — глядеть не на что. Курят, пьют, матерятся, дерутся, а частушки запоют… И ведь ни одного, мам, ни одного, чтобы без девчонки. А в праздники. Ему рожу растворожат, весь он в кровине, на ногах не держится, а она, бедняжка, ведет его да еще своим беленьким платочком вытирает ему сопливый рот. Так бы взял ее за руку и пожалел.
— Но и девчонки-то, Степа, живут разные.
— Разве я говорю. Конечно, не одинаковые, но в каждой, мам, есть свой интерес: глядишь, глядишь и еще бы глядел. К тому и говорю, что я потом тоже высмотрю себе самую красивую. Сам какой ни есть, а раз в этом деле нет равенства, бери лучшее.
— Да ты вроде бы уж и высмотрел, — мать снова поджала губы и отвернулась от сына, стала чересчур усердно вылавливать картошку из чугунка.
Но Степан перехватил ее усмешку и ответил с вызовом:
— Высмотрел. И высмотрел не хуже других. И от своего не отступлюсь. А тебе смех какой-то. И давай на этом кончим. Поговорили и хватит.
Он вылез из-за стола, сходил в кладовку и принес легкий отцовский топор, завернутый с прошлого лета в масленую тряпицу. Сел на лавку и стал править его на покосном бруске. Все делал не торопясь, бесповоротно, закусив по-отцовски зубами нижнюю губу.
— Дак ты, Степа, что же делаешь с матерью-то? У тебя голова на плечах али вот такая же посудина, — мать щелкнула ложкой по чугунку. — А ежели ты вырешил все-таки по-своему, тогда вот тебе божница, а вот порог. Я за тебя перед людьми краснеть не хочу. Так ты это и знай. — Это был последний всплеск материнской воли, ее отчаяние и бессилие.
А Степан рос в своих глазах.
— Краснеть ей. За меня краснеть. Да меня сам дядя Ефим, тебе ли говорить, папин лучший друг, надоумил. А ей краснеть. — Степан отложил топор в сторону, подвинулся к матери, погладил ее по голове как старший. — Ты погоди со слезами-то. Он, Ефим, — человек не с улицы. Родной, можно сказать. Худа не скажет. Ну не пошло с учением, что же теперь, в петлю?
— Иди робь, кобыляк, вот его слова. Отдай больше, проси меньше.
— А сама ты не так ли всю жизнь. Он, дядя Ефим, ничего не посулил, но и пугать не стал.
Мать Дарья в эту ночь не сомкнула глаз, окончательно не могла поверить в то, что Степка бросит школу. «У всех дети как дети, растут своей чередой, — сокрушалась она. — А мой — и в кого он такой-то выладился: все ему скорей да скорей, будто к поезду опаздывает. Да авось, господь даст, одумается. Али уж жизнь такая, несет и несет — не остановишь. Право, несет».
Когда мать вернулась с утренней дойки, Степана дома не было. В углу на лавке стопочкой лежали его школьные книжки и тетради, а в сумку он положил хлеба, картошки, селедочные головы от вчерашнего ужина и взял с собой в лес.
Первая трудовая весна далась Прожогину нелегко. Работать ему приходилось в мокром снегу, по талой воде, жгуче-холодной и проникающей всюду. Вытаскивая из мелколесья вязанки метел, он весь обносился, оборвался, на весеннем солнце лицо его высохло, задубело, но синие глаза, в молочных ресницах, светились пронзительно ярко, как и бывает с молодыми людьми, встречающими свою первую весну на воздухе, воле и солнце. А жил Степан и верил своим надеждам на полный вдох.
Однажды летом, когда метали лесхозовским лошадям сено, Степана и Ефима сняли с покоса и дали новый наряд: рубить из комлей молодых березок заготовки к винтовочным прикладам. На новом заказе пошли хорошие заработки. Степан приоделся, от первых зажиточных мыслей у него появилась мужицкая степенность: словами попусту не сорил, больше приноравливался к старшим и научился у них щуриться, вздыхать и ничем не хвалиться. Крепкая крестьянская закваска поднимала в нем ядреные, разумные силы. О школе вспоминал как о чем-то далеком, безвозвратном и оттого сердечно-близком. На все прошлое смотрел теперь спокойно и снисходительно, что дано пережить каждому. Только мысли об Анне Григорьевне становились все настойчивей и требовательней. Он любил о ней думать и чаще всего представлял ее себе с той высокой короной волос на голове, с тем милым, по-детски безвинным изъяном в русской речи, с теми округлыми губами, когда она — казалось — особенно старательно выговаривала слова со звуком «о».
Как-то жарким и душным вечером, перед закатом солнца, он столкнулся с нею на тропинке между огородами, по которой бабы носят воду с речки. Анна Григорьевна, видимо, только что искупалась и, свежая от речной воды, немного озябшая от вечернего воздуха, быстро поднималась в гору. На ней был серенький халатик, белые босоножки с незастегнутыми пряжками, а сухие косы в тугом витке — она не мочила их — лежали на груди; на плечи было накинуто сырое полотенце. Степан же шел из лесу и был в сапожищах, в сермяжной куртке, искусанный за долгий день оводами и ощущая, как жаркой тяжестью налиты его руки, ноги, все исхлестанное ветвями накаленное солнцем лицо. Оба они не узнали друг друга, и, уступая дорожку, оба остановились.
— Здравствуйте, Прожогин, — сказала она первая, легко и просто своим привычным учительским тоном, от которого Степан неловко почувствовал себя опять учеником, только на этот раз учеником-переростком, стыдясь перед ней своего роста, своей неуклюжести и одежды. Потом он не мог припомнить, поздоровался ли с нею, зато помнил, как она, подняв ресницы, открыто и удивленно поглядела на него во все свои большие, чуточку навыкате серые глаза. Было в ее взгляде что-то одобряющее, но постороннее, и Степан с горечью понял, что встреча мало тронула ее. Чувство безысходного одиночества овладело им в этот тихий, теплый и доверчивый вечер, когда пробуждаются и воскресают неукротимые желания, забытые в дневных тревогах. «Ах, не моя краса в чужом окошечке, — вдруг грустно подумал Степан словами песни. — Какие мы разные, и нет ничего и не будет между нами…» Но эти безнадежные мысли выветрились на другой же день. Молодое, жаркое, солнечное не могло не звать и не сулить новых встреч, надежд и радостей. Он много раз, правда, все мимоходом встречал Анну Григорьевну, и ему стало казаться, что она дружелюбно отвечает на его поклоны. Но подойти к ней, заговорить не решался, надеясь на какой-то верный счастливый случай. Наконец собрался написать ей письмо и даже подобрал слова, какими закончит его, но для самого начала, как ни маялся, не умел найти подходящих слов: все выходило нелепо, глупо, смешно. И, пожалуй, впервые Степан поглядел на себя отрезвевшими глазами, поняв наконец, что вся ее тонкая, нежная и хорошо осмысленная ею красота не для него, — ему сделалось нестерпимо стыдно за свою жалкую выдуманную любовь. На этом крутом повороте он и дал себе слово совсем не думать об Анне Григорьевне, забыть ее. После такого ясного и твердого решения на сердце немного отлегло. Он даже начал завязывать знакомства с поселковыми девушками, но, помимо своей воли, все время сравнивал их с Анной Григорьевной и в мыслях снова и снова уходил к ней, забывая все на свете. Ему стало казаться, что и он, и Анна Григорьевна думают одинаково, оба вьют одну бессловесную думу.
Осенью лесхозу вдруг положили новый повышенный план на ружейные заготовки, пришло много новых рабочих, и дядя Ефим все чаще стал поговаривать о своем сыне, служившем в армии на Дальнем Востоке. А однажды в лесосеке, поозиравшись вокруг, высказал свою тревогу Степану:
— Война будет, Степа. Погляди, какую прорву заготовок рубим. Ведь за размытым оврагом всю березовую молодь выпластали. Ей-бо, к войне неминуче.

![Светлые мысли и ночи [Светлые мысли и дни]](/uploads/covers/2023-08-06/svetlye-mysli-i-nochi-svetlye-mysli-i-dni-201.jpg-205x.webp)



