Эпох скрещенье… Русская проза второй половины ХХ — начала ХХI в.
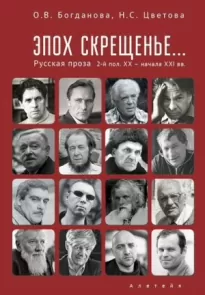
- Автор: Ольга Богданова
- Жанр: Критика / Литературоведение
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Эпох скрещенье… Русская проза второй половины ХХ — начала ХХI в."
Роман Захара Прилепина «Обитель»
Роман З. Прилепина «Обитель» (2014) — произведение очевидно этапное, дающее возможность утверждать, что появился прозаик, способный создать на историческом сугубо документальном материале художественное исследование исключительно хрупкого в силу его изначальной подчиненности идее святости русского мира, непостижимого, предельно закрытого для «чужих» характера русского человека.
Моделью русского мира в ХХ веке, по Прилепину, стали Соловки — архипелаг в пространстве Беломорья, где весной 1920 года одновременно с установлением Советской власти началось размещение лагеря особого назначения (СЛОН). Написано о Соловках немало. Из общеизвестного — очерк М. Горького «Соловки», «Погружение в тьму» А. Волкова, «Неугасимая лампада» Б. Ширяева. О Соловецком лагере оставили воспоминания бывшие его узники П. Флоренский, А. В. Розанов, А. Клингер, Д. Лихачев, наконец, четыре года проведший на архипелаге и строительстве Беломорканала Н. Анциферов. И вот первая странность — писатель, заявивший на первых страницах романа о том, что его задача следовать задокументированной исторической правде, не оставляет в своей «Обители» почти никого из этой славной плеяды, из тех, кого «запросто не встретить на улицах Москвы и Петрограда» (с. 43). История вторгается в художественное пространство романа мимолетным упоминанием «бывшего повара Льва Троцкого», профессора Императорской академии художеств Бразе (с. 62)[365], начальника лагеря Ногтева, да бесспорным наличием прототипа Федора Эйхманиса Теодорса Эйхманса — латышского стрелка, первого коменданта СЛОНа. Такое ощущение, что писатель сознательно исключает из поля зрения тех, кто мог претендовать на разрушение единства интересующего его пространства, постижение которого стало судьбой молодого москвича Артема Горяинова. Основания для выбора именно этого персонажа в качестве ключевого зафиксированы в семантике его имени: «невредимый, здоровый, здравый»[366].
Особую художественную нагрузку в первой книге несет сакральный образ Соловецкого архипелага, формировавшегося в национальном культурном сознании на протяжении пяти веков. Основные географические доминанты этого пространства воспроизведены в романе достаточно точно, их названия вполне соотносимы с современным «туристическим» представлением о мистическом северном архипелаге: Филиппова пустынь, Секирная гора, Савватиевский скит, озеро Красное, Никольские ворота, Преображенский собор, бухта Благополучия, канал, соединяющий Данилово озеро с Порт — озером. Правда, храм святого Онуфрия на погосте уже не единственный действующий на островах, да озеру Трудовому вернули историческое имя — Святое. Хотя градация этих историко — культурных символов в романе не «музейная». Она соотносится с режимной жизнью и производственными задачами пятнадцати соловецких рот. Самая страшная, одиннадцатая — это располагавшийся на Секирке у Свято — Вознесенского скита мужской карцер, факт существования которого затмевал в сознании главного героя удивление, вызванное новостью о проведении спартакиады, об открытии музея иконописи, библиотеки, школы, театра, об издании журнала, работе радиоузла, пушхоза, типографии, смолокурни, лесопилки, электростанции, железной дороги, метео — и биостанции, о процветании питомника лиственниц и хвойных деревьев, розария…
Но уникальность создаваемого художником образа мира даже не в этом. Любое романное пространство предлагает редуцированный образ реальности. Главное — направление, смысл этой редукции. Читатель «Обители» очень скоро понимает, что важнее всего в этом романе предлагаемая художником концепция мира — свод законов, по которым осуществляется предлагаемый образ мира, создаются описания, располагаются предметы и выделяются признаки ключевых объектов[367]. Эти законы определяют характер художественной, текстовой репрезентации авторского видения русского мира, заставляют художника в первой книге отодвинуть на дальний план событийный компонент повествования, задают не только конституциональные характеристики времени, но и «аскетизм», системность предметного заполнения художественного пространства.
Первое, на что обращаешь внимание, — соловецкие пейзажи Прилепина. Современные путеводители называют в числе главных достопримечательностей Соловков «удивительную северную природу… архипелага»[368]. Рекламные фотографии прежде всего презентуют леса, неподвижную водную гладь, картинно покойное закатное солнце, сказочных животных и птиц, таинственные островные каменные лабиринты. Отец Павел Флоренский писал своим близким: «Краски неба — самое красивое, что есть на Соловках»[369]. По сути, это одна из наиболее распространенных аранжировок вечной мелодии архипелага, которую попытались угадать первые насельники монастыря, открывшие великие просторы Русского Севера для воплощения идеи святости.
Пейзажи «Обители» принципиально иные: «сумрачные» с почти всегда «тихими», как «вымершими лесами». «Здесь и цветы весной не пахли, и деревья осенью» (с. 409). И бесконечными казались героям «рассатанившиеся» (с. 405) «белого цвета» дожди, «тяжелые», «сумрачные», «бешеные» (с. 436) и «колкие» (с. 16) ветры. Даже солнце, традиционно олицетворяющее для православного человека волю Бога и возможности ее осуществления, им виделось словно «замешанным на свете фонарей» (с. 223), передвигавшимся по какой — то странной, непривычной, алогичной траектории, разрушавшей представление о начале и завершении этого движения. Пейзажной доминантой, как и Флоренскому, Прилепину видится соловецкое небо. Но у Прилепина оно иное: неостановимо вращающееся из — за стремительно плывущих по нему разноцветных, розовых и фиолетовых пенящихся облаков, «объемное», будто бы «засасывающее в себя все запахи» (с. 409), мутное во время частых штормов. Писателю удается сделать почти невозможное — его пейзажи внутренне оживают. И обедненность соловецкой природы, уничтожаемой дисгармонизирующей природные связи деятельностью человеческого сообщества, заставляет Василия Петровича произнести страшные слова: «Вокруг вас — какофония! Какофония и белибердовые сказки» (с. 394).
Наиболее значительным знаком случившихся превращений в романе становится образ чайки. Со времен Чехова этот образ соотносится с постоянно обновляющейся, как сказал бы Ю. Лотман, «коренной конструктивной идеей» русской культуры. В советское время в многочисленных шлягерах чайка всего лишь напоминала о безграничных морских просторах — ключевом компоненте романтического семантического поля свободы. Герой Прилепина не сразу, но все ж вспоминает в театре о восхождении образа чайки к одному из символов русской классики. Но на прилепинских Соловках, в прилепинской аранжировке соловецкой мелодии чайка — «поганая», «гадкая птица с ее жадным, бабским, хамским характером» (с. 409). «Это тварь», разучившаяся охотиться, питавшаяся исключительно на помойках, промышлявшая воровством и грабежом. Чайки «орут», «вопят», издают «отвратительные звуки» (с. 99), их опасаются, потому что они могут напасть, «клюнуть, скажем, в глаз так, чтоб глаза не стало» или «пробить клювом башку» (с. 64). Дважды повествователь отмечает фантастическое сходство: «Чекисты орали, как большие, мордастые и пьяные чайки» (с. 166); «Красноармейцы со своими собачьими лицами и вдавленными глазами. Как их было отличить? Проще было одну чайку отличить от другой» (с. 377).
Эти замечания заставляют задуматься о том, что в огромном природном мире произошла разбалансировка взаимоотношений всех его частей, компонентов, разбалансировка, породившая образ «ада». В создании этого впечатления видится смысл исследования соловецкой копии русского мира, масштаб и детальные характеристики которой позволяют приблизиться к высшей реальности, преодолевая ее мозаичность. Для Эйхманиса Соловки — огромное производство, позволяющее экспериментально решать жизненно необходимые задачи. Для бывшего белого офицера Бурцева, наоборот, трагическое «отражение России, где все, как в увеличительном стекле» (с. 58). Центральный персонаж передает придуманную вечно философствующим Мезерницким метафору, обнажающую сущность уникального пространства: «Просто шубу носят подкладкой наверх теперь! Это и есть Соловки!» (с. 230). Но резюмирует все эти впечатления умудренный опытом Василий Петрович: «…это не лаборатория. И не ад. Это цирк в аду», гигантская фантасмагория — безбрежный мир, раскинувшийся под тяжелым и близким небом, напоенный «ощущением присутствия врагов» (с. 118), опасности, тоской, чувствами, которые провоцируются и поддерживаются не куликами, гагарами, куропатками, рябчиками, дроздами, синицами, дятлами, которых, по утверждению специалистов, на Соловках предостаточно, но отвратительными чайками.
Писатель прекрасно знает, что в действительности Соловецкий архипелаг состоит из ста чрезвычайно разнообразных по природным и историческим характеристикам территорий. Но повествователь игнорирует это разнообразие, конечность, ограниченность соловецких территорий (см. описание финальной попытки побега центральных персонажей во второй книге), потому что становится исполнителем сверхзадачи, предполагающей выявление общих характеристик лагерного пространства, доминантой которого является выгоревшее тело соловецкого монастыря, в лучшие месяцы года затянутое маревом, «монастырская громада», подвергшаяся «ужасному разору», потерявшая «в объеме и весе» (с. 590, 18).
Уточняющими знаками «приостановившегося мира» (с. 572) лагерных Соловков, кроме мерзких чаек, видятся «болотистое сияние белой соловецкой ночи» (с. 81); «огромный валун, пахнущий водой, травой, огромным временем, заключенным внутри него» (с. 323); севернорусская рябина, дерево страданий, безрадостной жизни; не золотые, хотя и «обитые золотом», «красные кремлевские купола» (с. 375). Романный архипелаг почти забыл о существовании стеклянного фонаря на маяке, венчавшем главу храма на Секирке, как ключевом своем символе с момента заселения Соловков. Изображаемое писателем пространство, продуваемое «солеными сквозняками» (с. 416), в какой — то момент исторического бытия допустившее подмену своей высокой миссии, поглощенное безжизненной тишиной, покинули святость и красота. Но несмотря на то, что один из основных персонажей трагически констатирует исчезновение поэзии («нет больше никакой поэзии на свете» (с. 416), в тот момент, когда при постижении островного пространства главный герой добирается до сердца Соловков, кельи святителя Филиппа, до горы Фавор, в тексте возникают поэтизмы. Пусть оказался Артем в этом чрезвычайно важном для духовной истории России месте «без креста и без хвоста» (с. 371), гонимый страхом смерти, и не нашел в себе внутренних ресурсов для того, чтобы принять предложенную судьбой экзистенциальную защиту, но обитатели Секирки все же услышали колокольный звон. И узнали, поняли, приняли, что под многими слоями штукатурки монастырские каменные стены скрываются, как напоминание об изначальной миссии Соловков, лики святых. Батюшка Зиновий утверждает: «Они лежат под известкой, как трава и ягода под снегом… хранятся и ждут … ждут своего часа» (с. 569).
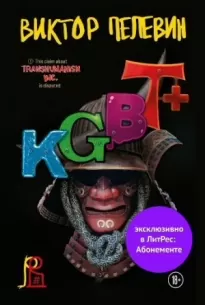
![Спешите делать добрые дела[сборник 2023]](/uploads/covers/2023-06-16/speshite-delat-dobrye-delasbornik-2023-201.jpg-205x.webp)



