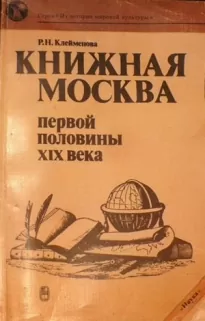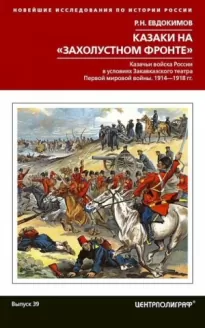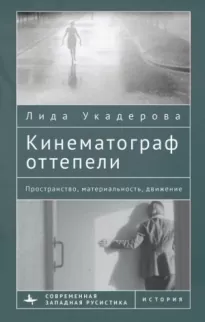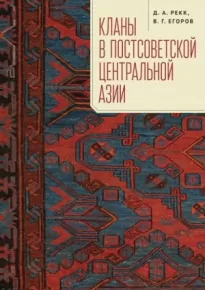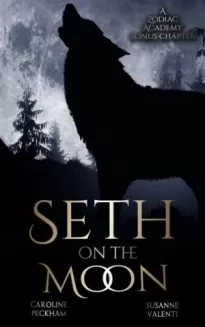Русская народная утопия (генезис и функции социально-утопических легенд)
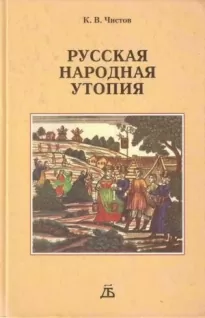
- Автор: Кирилл Чистов
- Жанр: Культурология
- Дата выхода: 2003
Читать книгу "Русская народная утопия (генезис и функции социально-утопических легенд)"
Здесь не место разворачивать эту тему вглубь и вширь. Характерно, что именно в 1960-е гг. на волне развивавшегося общественного движения в нашей стране появилась целая серия исследований русского народного социального утопизма. В основе этого нового тогда направления лежало стремление выяснить, каковы закономерности возникновения утопизма вообще, имеет ли он корни в обыденном сознании, что для России означало: имеет ли он корни в социальной психологии крестьянства, в ее историческом развитии и какова доминанта его менталитета? Изучение социально-утопических легенд и движений (о «золотом веке», о «далеких землях» и об «избавителях») в работах А. И. Клибанова было дополнено интереснейшими материалами по социально-утопическим легендам у русских сектантов и их роли в так называемых еретических движениях, связь с которыми нами предполагалась и была намечена, но не изучена специально.
Как показано было в этой книге, в обыденном крестьянском сознании формировались не логически мотивированные теории, а преимущественно легенды, бытовавшие в виде слухов, вестей, устных рассказов. В XIX в. образовался также целый слой социально-утопических сочинений, проповедей, поучений и т. д. людей из народа — крепостных крестьян, сектантских проповедников, харизматических лидеров и др. Стало выясняться, что многие из этих легенд и учений были известны Л. Н. Толстому, Ф. М. Достоевскому, Н. А. Некрасову, П. И. Мельникову-Печерскому, А. К. Толстому, А. Н. Островскому, Г. И. Успенскому, В. Г. Короленко, Н. К. Михайловскому, многим писателям-народникам, Н. С. Лескову, Д. Н. Мамину-Сибиряку и др. Можно было бы также назвать десятки имен литераторов XX века.
Уже это перечисление имен писателей, сыгравших значительную роль в истории русской литературы, свидетельствует о том, что народная социально-утопическая традиция и ее роль в русской литературе — достаточно важная проблема для нашей литературы и литературоведения. Многие подобные эпизоды были выявлены авторами коллективных монографий «Русская литература и фольклор»,[1076] однако до сих пор нет общего обзора и обобщения этих наблюдений. Подобную задачу мы не ставим и в этой книге. Сходные проблемы для литератур других народов мира мало изучены и не обобщены. Поэтому преждевременно было бы говорить об общих закономерностях. Очень важно, что проблема взаимосвязи народного и ученого утопизма теперь имеет шансы из сферы официозной декламации (типа «Россия выстрадала марксизм…») или догадок превратиться в сферу мотивированных и документированных исследований литературоведов, историков, фольклористов, этнографов, социологов и психологов. Целенаправленное объединение их усилий было бы весьма актуально.
Мы уже несколько раз говорили о том, что решение проблемы «частная собственность/общая (обобществленная) собственность» и «собственность как причина неравенства» неоднократно склонялось в пользу общей собственности и эти решения были стимулом организации религиозно-социалистических и других коммун — от раннехристианских до коммунаристических объединений XX века. Большинство из них не выдерживало испытания временем и постепенно распадалось или деградировало. Известны многочисленные случаи перерастания подобных коммун в общежительства или монастыри (в России старообрядческие монастыри-общежительства и так называемые никонианские «монастыри несобственные»), которые вовсе не поощрялись церковным начальством.
В истории православия, католицизма, мусульманства, англиканской и кальвинистской церквей известны возникавшие время от времени влиятельные течения «нестяжателей», протестовавших против обогащения церкви, развращения ее собственностью. Известны также и чисто светские общины такого рода. Так, например, раннее донское (и в сходных формах и запорожское) казачество требовало от своих сторонников отказа от земледелия — на том основании, что владение землей непозволительно, греховно, она Божья. Собственность на землю порождает все несчастья, включая крепостное право.
Как правило, общины, провозглашавшие общую собственность, за редкими исключениями (например, движение, возглавленное Т. Мюнцером, чешских таборитов и др.) оставались локальными явлениями, не пытались распространить свои порядки на все государство. Окруженные врагами или просто населением, живущим по иным правилам, они были островками в море собственников, как мелких, так и крупных. Вероятно, их опыт и их судьба оказали определенное влияние на Т. Мора, проецировавшего свою социальную утопию на остров, изолированный от соседей.
Даже наиболее развитые народные социально-утопические легенды, как правило, не содержали никаких идей государственного масштаба. Их идеал — сосуществование отдельных, не зависимых ни от кого крестьянских семей. Образ жизни этих семей сам собой разумелся. В существовании государства такие семьи не нуждались. Внутриобщинное регулирование, когда возникла в том необходимость, было тоже традиционным и сомнений не вызывало. Все остальное — весьма общие формулы, преимущественно негативного характера. В этом сказывался один из фундаментальных принципов формирования утопий вообще: идеальное оказывается изображением современной с ее создателями действительности с отрицательным знаком — инверсией. Единственная особенность подобной инверсии — изолированность, удаленность и отъединенность. Максимальный вариант такой изоляции — остров. Здесь были возможны и новые образования, по законам логики прораставшие из глубоких архаических корней.
Как уже говорилось, поэтический образ страны благополучия, расположенной на острове, свойствен фольклору многих народов и генетически восходит, вероятно, к представлениям об острове, на который переселяются души предков, либо, первоначально, к представлению о параллельном существовании двух, трех и более миров, эпизодически сообщающихся друг с другом. В дальнейшем своем развитии и с привнесением в модель мира этических оценок (вплоть до представления об аде и рае) представления об острове — другом (не обязательно «ином») мире — дают материал для структурирования социально-утопических легенд (Атлантида, Винета, Офир, Туле, Рунгхольд и др.), а позже — утопий (Т. Мор, Т. Кампанелла и др.). Поэтический образ острова, выключенного из сферы действия дурных социальных закономерностей, получал в истории как бы периодические подтверждения и обоснования (например, в истории русского крестьянства — Запорожская Сечь на о. Хортица, монастырь на Соловецких островах — некоторое время опорный пункт старообрядчества, поселение казаков-некрасовцев на о. Майнос, бегунский скит на о. Жилом на севернокарельском Топ-озере; наконец, легендарные «Опоньские острова» на завершающем этапе развития легенды о Беловодье, ранее проецировавшегося на отдаленные районы горного Алтая и т. д.).
Кстати говоря, примерно то же самое можно было бы сказать и про легенды о «золотом веке»: идеализации не пространственной, а временной, вероятно, восходящей к начальным временам усложнения социальных отношений в обществе, выходившем из лона родоплеменной идиллии (точнее — казавшейся после идиллией). Платон — родоначальник европейского утопизма — не только передает легенду об Атлантиде, но опирается на свои впечатления о грандиозных остатках неведомых древних цивилизаций.
Идеей отдаленности, отъединенности, изоляции пронизаны и легенды об «избавителях». Способность «избавителя» изменить если не весь мир (как второе пришествие Христа), то, по крайней мере, ближайший социум, мотивируется его особым происхождением (свергнутый царь, король, властитель, царевич, не допущенный к трону, обладающий благодатью харизматичный сектантский учитель и др.). В русских народных легендах на их теле иногда имеются особые знаки, отличающие их от простых смертных. Появлению избавителя предшествует его тайное бытие — он скрывается до поры до времени от своих врагов или затворен в скале (Фридрих Барбаросса, Разин, королевич Марко и др.). Изолирующим моментом является и его особое поведение. Его праведная деятельность тоже мыслится как инверсия: по некоторым вариантам русских легенд об избавителях, он не только должен освободить крестьян, но и превратить их всех в бар, а бар — в крестьян (например, послепугачевский «избавитель» Метелкин), так же как в годы после Второй мировой войны в некоторых районах Океании напряженно ожидали появления стародавнего вождя, пращура или легендарного героя Джона Фрума (Новые Гебриды), который должен не только отдать все сокровища, которые привезет на корабле, туземцам, но и превратить их в белых, а белых — в туземцев. Жители этих районов, ожидая «избавителя», бросали работу, строили пристани и т. д. Характерно активное восприятие легенды; она сотворена не для развлечений, не для услаждения слуха. Это весть, требующая действия, активности, преданности. В русских легендах слух о появлении очередного «избавителя» обычно означал, что освобожден из крепостного рабства будет тот, кто откликнется на призыв и пойдет за «избавителем», кто готов будет за него голову положить.
В народные утопические легенды, по мере их распространения, продолжали вплетаться элементы действительности: например, сведения о суровых условиях горного Алтая и на островах «за Китаем», которые вовсе не отпугивали тех, кто искал Беловодье; в легенды об избавителях — факты из биографии самозванцев, слухи об их успешных действиях, когда такие были и т. д. Одним словом, легенды развивались по законам желаемого, чаемого и не столько отражали действительность, сколько дополняли ее, выражали готовность и необходимость поверить в возможность ее совершенствования.
В стремлении показать сходство механизма формирования народных социально-утопических легенд и профессиональных утопических сочинений, общность психологии, лежащей в их основе, мы оперировали преимущественно русскими материалами, фольклорными и историческими. Об этих материалах теперь можно говорить увереннее, так как они лучше разработаны. Привести отдельные примеры, касающиеся других народов, также не составило бы труда. Однако предоставим это специалистам. Дело не в наращивании параллелей, а в конкретном исследовании фактов и их смысла.
Очень важно, что создание утопических легенд продолжается. В пору Гражданской войны и коллективизации отдельные группы крестьян по-прежнему искали Беловодье, уходя за пределы Советского Союза. После революции возникали слухи о том, что царевич Алексей и кто-то из его сестер, дочерей Николая II, чудом остались живы (и снова появлялись самозванцы и самозванки, откликавшиеся на эти легенды) и пр. Эти материалы еще предстоит собрать и осмыслить.
История русского крестьянства изучается давно и целый ряд проблем ее исследован довольно досконально. Тем не менее, несмотря на значительное число фактов и концепций обобщающего характера, в писаниях дилетантов и некоторых зарубежных славистов продолжают бытовать пошлые или мазохистски-националистические стереотипы: русский крестьянин будто бы был испокон веков ленив и до безобразия терпелив, он предпочитал мечтать о «молочных реках и кисельных берегах» или справляться с делом «по щучьему велению, по моему хотению». Публицисты, охотно пользующиеся этими пошлыми стереотипами и распространяющие их на всю историю русского крестьянства, обычно отличаются не только полным незнанием русского крестьянства и непониманием его психологии, но и отсутствием элементарного чувства юмора, не понимают, что в обоих случаях (как и при использовании иных стереотипов такого же уровня), вышучиваются лодыри и лентяи. Пародии такого типа издавна известны не только в устной традиции, но и в целом ряде письменных памятников — «Азбуке о голом и небогатом человеке» или «Сказании о роскошном житии и веселии».