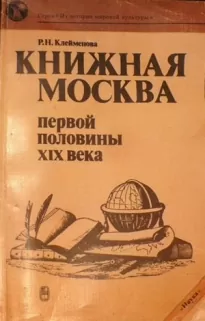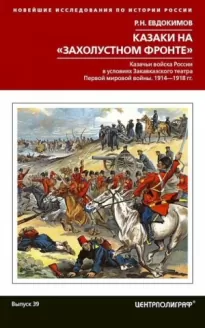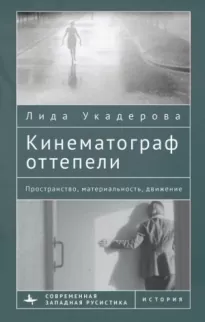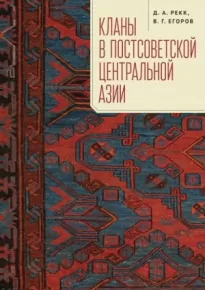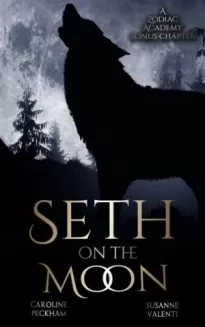Русская народная утопия (генезис и функции социально-утопических легенд)
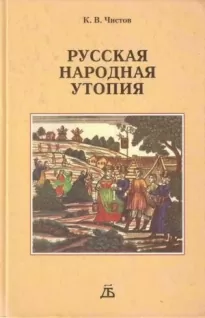
- Автор: Кирилл Чистов
- Жанр: Культурология
- Дата выхода: 2003
Читать книгу "Русская народная утопия (генезис и функции социально-утопических легенд)"
Мы все время говорили об опыте XX века и, естественно, прежде всего, о пережитом нашей страной. Однако неизбежно возникает вопрос: достижимы ли в принципе идеалы, возможна ли вообще реализация какого-либо теоретического плана социальных преобразований без деформации первоначального замысла? Или иначе: в какой мере идеи ответственны за то, как их понимают или тем более воплощают в действительность? Припоминается роман Л. Фейхтвангера «Мудрость чудака».[1075] В нем обнажена поистине парадоксальная ситуация. Идеи Ж. Ж. Руссо были популярны в кружке Марии-Антуанетты. Но они же, как известно, сыграли значительную роль в формировании идеологии Французской революции 1789 года. Во имя этих идей Марии-Антуанетте и Людовику XVI отрубили головы. Но то же самое произошло и с Робеспьером, и со многими другими деятелями Французской революции во имя все тех же идей. Роман Фейхтвангера написан в 1952 г., когда значительная часть опыта, которую принес XX век, уже начала активно осмысляться и многие иллюзии были изжиты или стали изживаться. Поэтому и историк, и литературовед, анализирующий столкновение идей или осмысляющий те или иные концепции, создававшиеся мыслителями прошлого, писателями или публицистами, обязан быть крайне осмотрительным. Теоретические идеи и практические способы их реализации далеко не одно и то же. Вторые далеко не просто механически вытекают из первых.
Но эти рассуждения ничто по сравнению с самым главным для нас вопросом: происходившее в нашей стране после 1917 г. было действительно попыткой реализовать социально-утопическую концепцию, цель которой была изначально действительно гуманна? Или это было нечто совсем иное? Вспомним о том, что послеоктябрьская история нашей страны в первые послереволюционные годы пусть наивными, но честными революционерами и у нас, и во многих странах воспринималась как грандиозный эксперимент, имеющий, как позже было принято выражаться, «всемирно-историческое значение». Расставание с этой иллюзией было поистине трагическим; оно оказало сильное влияние на весь ход развития мировой общественной мысли. Оно было длительным, так как очень хотелось принять сущее за желаемое.
При оценке нашей истории после 1917 г., разумеется, надо иметь в виду, что социальный эксперимент (если признать, что он подразумевался изначально и проводился не in vitro, как это называют экспериментаторы-естественники, т. е. не в пробирке, не в лабораторных условиях) совершался в условиях крайне неблагоприятных. Ставка на мировую революцию оказалась несостоятельной. Согласно классическому марксизму пролетарская революция должна начаться в наиболее развитых капиталистических странах. Ситуация же сложилась так, что революция началась в одной из отсталых аграрных стран Европы — в России. Возникло враждебное окружение. Первая мировая война и затем ожесточеннейшая гражданская длились более десяти лет. Они сопровождались разрухой, голодом и пр. Гибель и эмиграция значительной части интеллигенции, большие потери бывших средних классов и немногочисленность переживших все эти годы фабрично-заводских рабочих, убыль работоспособных в деревнях — все это привело к резкому снижению качества населения в целом. Возникла альтернатива: либо отказаться от всех планов (и власти! — что было бы невероятным), либо попытаться, чего бы это не стоило, «построить социализм в одной, отдельно взятой стране», отсталой и разрушенной. На этом фоне стал развиваться процесс, хорошо известный из истории других больших революций (английской, французской) — формирование в послереволюционный период новой диктатуры, сильной (в нашем случае — сверхсильной) власти, способной преодолеть стихийный революционный хаос. Возникла личная диктатура Сталина, о которой мы здесь не будем говорить — за последние три десятилетия опубликовано достаточно документов о сталинском режиме, его расправах со старой революционной гвардией, о терроре, который коснулся всех слоев населения. Официальная фразеология при этом старательно сохраняла свои традиционные черты и наращивала легенды, которые в наши дни подверглись сокрушительному разоблачению. На наших глазах произошел крах государств, которые составляли так называемую «мировую социалистическую систему». Социалистическая идеология как государственная в весьма деформированном виде продолжает только отчасти сохраняться в Китае, Вьетнаме, Северной Корее и на Кубе.
Крах социально-утопических идей в Европе вместе с тем не должен вести к элементарному вычеркиванию этого периода из исторической памяти. Все с ним связанное должно быть тщательно изучено во всей его наивности, трагизме и преступлениях.
Опыт Советского Союза был уникальным по своим масштабам, но он не был единственным. На этот раз мы имеем в виду опыт, который накопили другие европейские «социалистические» страны, вне зависимости от того, брать это выражение в кавычки или нет, т. е. Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Югославия, Албания. В каждой из них процессы развивались со своими особенностями. Можно по-разному оценивать степень давления Советского Союза на каждую из этих стран, однако это не снимает общего вопроса об их участии в утопическом эксперименте, пусть и на позднем его этапе, когда применение силы, террор стал обычным явлением, хотя тоже в разных странах в разной мере.
Мы уже коснулись некоторых фундаментальных вопросов, которые требуют осмысления в свете нового опыта XX века (принципиальная осуществимость идеалов, «светлое будущее» и стагнация истории, общая и частная собственность, мотивированность труда в условиях обобществления собственности, огосударствление «общенародной собственности» и превращение ее в собственность партийно-корпоративную и т. д.). Послереволюционный период в России и период после Второй мировой войны в европейских социалистических странах привели к кризису утопической мысли. Утопизм, или тем более социалистический утопизм, в значительной мере потерял свою популярность. Означает ли это конец «эры утопизма» в мировой общественной мысли? Разумеется, нет. Утопизм — одно из существенных свойств социальной психологии человека. Так же как невозможно установить, когда это свойство впервые появилось, так и нет никаких оснований считать, что события XX в., при всей их значительности и трагичности, убили в человеке способность дополнять (мысленно совершенствовать) действительность научно-фантастическими конструкциями социального и экономического характера. Не подлежит сомнению, что утопизм (и социальный, и технический, и экономический, и экологический, и этносоциальный) есть неизбежный элемент человеческого мышления вообще, — это одна из типичных форм критического осмысления действительности, выражение неудовлетворенности ею, желание преодолеть вопиющие недостатки, сопоставить действительное и желаемое. Короче, утопии — один из двигателей человеческой истории, способ сопоставления сущего с идеалом. Это не только не снимает, но, наоборот, обостряет вопрос о крайней опасности срочной, насильственной, бескомпромиссной реализации утопических идей, каковы бы они ни были изначально. Опыт XX века в этом отношении более чем выразительный.
Давно замечено, что утопическое мышление переживает особенное напряжение в периоды социальных, экономических и национальных кризисов. То же происходит и в наши дни. Потрясения, переживаемые нашей страной на сломе недавно еще господствовавшего общественного строя, и глубокий экономический кризис тут же запустили в ход механизм безоглядной идеализации и давнего, и даже, как это ни невероятно, недавнего прошлого и, с другой стороны, идеализации социальных отношений и экономики так называемых «цивилизованных» стран, т. е. стран, давно живущих по законам рынка и рыночных отношений, а также этническую (националистическую и шовинистическую) идеализацию. Создается новый комплекс утопических представлений и легенд, имеющий и бытовой, и политический характер, непрерывно отображающийся в публицистике.
Так, распространилось наивное представление о беспроблемности общественного устройства и экономики США, Германии, Англии, Франции, Японии. Для того, чтобы поверить этому, надо, с одной стороны, быть плохо осведомленным в действительных тамошних условиях, либо в очередном увлечении не замечать очевидного и начисто забыть всю великую литературу, философию, социологию этих стран — и старую, и современную, поднимавшую множество проблем (фактического неравенства, эгоистического индивидуализма, асоциальности, деструкции культуры, сложнейшие экологические проблемы и т. д.). Не случайно социально-утопические идеи, социально-утопические художественные сочинения, научно-фантастические романы с элементами социального утопизма в сочетании с антиутопиями, дистопиями и «романами-предупреждениями» продолжают там возникать и издаваться. Высокий уровень благосостояния населения наиболее развитых стран породил новые проблемы «общества потребления» и совсем не снял большинство старых проблем, и они, в свою очередь, стимулируют утопические элементы в современной общественной мысли.
Для художественной интеллигенции, психологов и философов европейских стран и США характерны настроения «конца века» (fin de siécle), экологической апокалиптической катастрофы.
Сейчас в российской общественной мысли можно встретить утверждения, согласно которым ничего этого нет, что развитие западных стран и их культуры беспроблемно, а все остальное — измышления советской пропаганды. Однако факты говорят об ином. Изобилие потребительских товаров, очень впечатляющее на фоне наших недавних дефицитов или нынешней дороговизны, вовсе не сняло проблем, которые существуют и продолжают обсуждаться. Продолжают возникать и утопические сочинения. Этот факт должен внушать не пессимизм (человечество не может расстаться с традиционной наивностью!), но, прежде всего, оптимизм — способность к критической оценке действительности не утрачена, и поиск выходов из общего кризиса (а наш кризис — один из его вариантов) продолжается. Для литературоведов, фольклористов, социологов это означает настоятельную необходимость продолжать исследования природы утопизма на разных социальных уровнях. Если речь идет о литературе или других видах художественного творчества и общественной мысли в нашей стране, то, вероятно, следует, кроме того, решительно совершенствовать способы их объективного анализа, которые позволили бы четко отличать естественные формы утопизма и формы приспособленческие, популистскую имитацию утопизма, соотношение утопизма и антиутопических тенденций. Это может подготовить нас к трезвому восприятию новых витков утопизма, которые, вероятно, ожидают нас, и движение по которым, как говорилось, уже началось.
И, наконец, последний вопрос. Утопические идеи, системы, движения зачастую трактуются как плод измышления ученых умов кабинетной элиты. Мы, разумеется, далеки от того, чтоб отрицать роль великих утопистов прошлого в истории утопизма. Однако теоретическое допущение, что утопизм есть неизбежное качество социальной психологии, должно быть подкреплено сознанием того, что утопические идеи, легенды и движения рождались и развивались задолго до появления ученого утопизма, развивалось параллельно с ним и независимо от него. И более того, именно народные утопические идеи (обычно в форме легенд) были тем фундаментом, питательной почвой, без изучения которой история утопизма непредставима. Это и подвигло нас на издание этой книги.