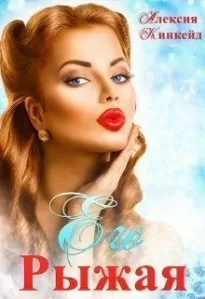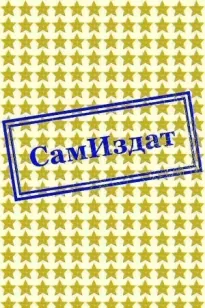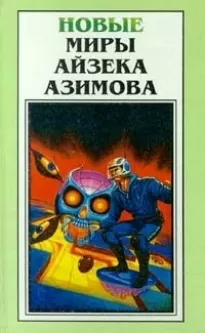О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного
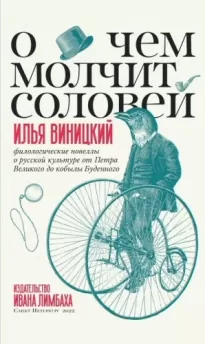
- Автор: Илья Виницкий
- Жанр: Самиздат, сетевая литература
Читать книгу "О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного"
[73] См.: Старкина С. В. Велимир Хлебников. М. 2007. С. 189.
[74] Заметим вероятную смысловую перекличку «ротовушки» «трай» с числом «три», играющим ключевую роль в математической историософии Хлебникова.
[75] Весёлый А. Россия, кровью умытая. М., 1977. С. 147.
[76] Этого явно не понял американский переводчик Кевин Виндл (Kevin Windle): запевала у него«launched into song in his resonant high-pitched voice: Off, off, off With the daring demon’s head!» (Vesyoly A. Russia Washed in Blood. London: Anthem Press, 2020. P. 114).
[77] Цитируется известная казачья песня «Девица красная»: «С окуня уху я варила, / С окуня, с окуня / Уху я варила; / Уху я, уху я, / Уху я варила! / Гришку в гости приглашала, / Гришку я, Гришку я / В гости приглашала».
[78] Шолохов М. А. Тихий Дон. Роман. М., 1934. С. 416.
[79] 323 эпиграммы / Сост. Е. Эткинда. Париж, 1988. С. 37.
[80] Толмачев Н. Забавная филология, или Курьёзы языкотворчества. М., 2020. С. 164.
[81] См., в частности: Полуэктов Я. Как Пастернак с Маяковским посмеялись над Инбер; https://proza.ru/2019/09/07/1510
[82] Там же. Последний пример обыгрывает не стихи Пастернака, а гоголевские «Руби, козак! гуляй, козак! тешь молодецкое сердце» или примитивные патриотические вирши Сергея Михалкова «1914 год» из цикла «Русские богатыри» (1945).
[83] Колкер Ю. Чтоб Кафку сделать былью. 70 лет назад состоялся Первый съезд советских писателей // Звезда. 2004. № 10. С. 213; Толмачев Н. Забавная филология, или Курьёзы языкотворчества. С. 164.
[84] Например: «Душу грешную губить <...>». См. также матерную анаграмму в «Девичьей игрушке» (Барков И. Девичья игрушка. М., 2006. С. 151) и мудрый историософский «гарик» Игоря Губермана: «Сквозь любую эпоху лихую / у России дорога своя, / и чужие идеи ни к х.ю, / потому что своих до х.я» (Губерман И. Хроники Нового Вавилона. М., 2001. С. 201). И конечно, соответствующий фрагмент из народных куплетов: «Себя от холода страхуя, / Купил доху я на меху я…» (Витгоф Л. «Но люблю мою курву-Москву». Осип Мандельштам: поэт и город: книга-экскурсия. М., 2012. С. 341).
[85] Сдвиг с фонетическим комплексом «лихую» использовал Саша Черный в сатире «Краснодемон. Совлибретто» на тему лермонтовского «Демона»: «Метель ревет „Интернационал“. Сторож ходит перед калиткой и бьет в чугунную доску: «Завтра первую монашку / Посажу на ишака, / Отточу лихую шашку / И помчусь служить в Че-Ка!» (1925; Черный С. Собр. соч.: В 5 т. Т. 3. М., 1996. С. 167).
[86] Весёлый А. Россия, кровью умытая. С. 147.
[87] Чуткому хлебниковскому уху я бы приписал фиксацию соответствующих грубостей в песне с улицы — «ХУдожниками обУХа». Да и «мощи в штанах» в этом контексте вполне могут отсылать не только к «Облаку» Маяковского, но и к грубому материальному содержимому мужской нижней одежды.
[88] Прибавим к нашим рассуждениям о «народном песенном подтексте» раннесоветской литературы, связывающем удаль и убийство с эротикой и похабством, несколько стихотворных примеров из более позднего времени, подчеркивающих как незыблемость тыняновского закона «единства и тесноты стихового ряда», так и показательное невнимание к слуху и смыслу отдельных лихих «запевал», бессознательно обнажающих «внутреннюю форму» воспеваемого явления. В повести в стихах С. Спасского «Неудачники» (1929) есть строчки: «Вы были пестовать охочи / Лихую голову мою». В брутально-эпической сербской балладе в переводе Ильи Голенищева-Кутузова говорится: «К тяжким крепким воротам Леджана / Отрубил он голову лихую, / В торбу бросил русую небрежно» (Женитьба царя Степана // Эпос сербского народа. М., 1963. С. 26). Еще пример из перевода другой славянской баллады: «А не то тебе отрубим / Голову лихую. / «Ой, рубите, билюкбаши, / Голову лихую. / Не смогла она придумать, / Как покончить с вами» (Гребнев Н. Вторая жизнь: книга переводов. М., 1985. С. 41). Из удалой песни а-ля рюс Александра Мурашко: «Заложу лихую тройку. / Улечу я в снежный дым. / Колокольчик звучит звонко / Под дугой над коренным» (https://
stihi.ru/2014/02/16/9857). И наконец, из стихотворения-притчи Сергея Семенова «Конюх и конь»: «Замучился конюх, и выдохся конь / Цепляться за жизнь лихую. / В костре же пылает безумно огонь / И греет луну молодую. <…> Не думает конюх, не думает конь // О жизни своей невесёлой. / Пылает безумно в костре огонь, / Сжигая соседние села» (Семенов С. России низко поклонитесь: Владимир Путин вас спасет. Ridero, 2016).
ЦАРСКАЯ МАРСЕЛЬЕЗА
Литературная генеалогия песни Федора Басманова в «Иване Грозном» Сергея Эйзенштейна
Царь-вампир из тебя тянет жилы,
Царь-вампир пьёт народную кровь.
Ему нужны для войска солдаты —
Подавай ты ему сыновей.
Ему нужны пиры и палаты —
Подавай ему крови своей.
Петр Лавров. «Новая песня» на мелодию «Марсельезы» [1]
...противоречия, перевод и искаженное прочтение — типичные компоненты эстетической концепции Эйзенштейна, основанной на внутри- и межтекстовой игре противоположностей. «Чужой голос» постоянно слышен. Более того, он эффектно усилен, — но с тем, чтобы быть подвергнутым сокрушительному и безжалостному разгрому, заранее подготовленному и, так сказать, тщательно вмонтированному в отказное движение.
А. К. Жолковский. Поэтика Эйзенштейна: диалогическая или тоталитарная? [2] Запев
В одной из своих лекций Сергей Эйзенштейн рассказывает о совместной работе с Сергеем Прокофьевым в фильме «Иван Грозный» над песней о бобре, исполняемой Евфросиньей Старицкой (роль играет Серафима Бирман, песню поет Ирма Яунзем). «Песня, — объясняет режиссер студентам, — может писаться нейтрально, и лишь исполнять ее артистка будет с тем или иным подтекстом, то есть как бы думая определенным образом о том, что она поет. Меня больше интересовал другой путь. Я хотел, чтобы мысль человека, который поет, была бы выражена в музыке: в оркестре, а затем и в голосе». Музыка Прокофьева, поддерживающая «с невероятной силой» поющую Евфросинью и вовлекающая в свою орбиту «тему Грозного», создает, по словам режиссера, «страшный кусок» [3].
Лекция Эйзенштейна ставит сразу несколько тесно связанных друг с другом теоретических и практических вопросов, от которых мы будем отталкиваться в нашей статье. С какой целью и каким образом психологически интонируется — слово за словом — и интегрируется (кадр за кадром) в общий замысел фильма «народная» песня? Как синтезируется (здесь — идеологизируется) в фильме слово, звучание, ритмика, образ, мимика, моторика и антураж [4]? Как режиссер подчиняет своей задаче композитора, поэта, актера, художника и оператора? Наконец, как «чужая» (народная или стилизированная под народную) песня, исполняемая в фильме, «присваивается» персонажем-исполнителем, служащим (порой сам того не ведая) своего рода медиумом для скрытой историко-психологической программы (пульсирующей «мысли») создателя фильма?
В центре моего внимания будет другая, еще более известная и еще более «страшная», песня из этого фильма, включающая в интерпретационный горизонт фильма историческую тему стихийной злобы и «народного» мщения, занимающую особое место в русской культуре (словесной и музыкальной) 1860-х– 1920-х годов. Вопрос, который я бы хотел поставить в этой статье, может быть сформулирован так: какова смысловая и психологическая функция этой песни в идеологическом «хоре» фильма? Или более резко и провокационно: как (и о чем) «поёт» Эйзенштейн? Перепляс
Речь пойдет о песне царева любимца Федьки Басманова, написанной Прокофьевым для второй части «Ивана Грозного» и являющейся, наверное, одним из самых сильных музыкальных «номеров» в истории кинематографа. Текст этой песни, cочиненный бывшим конструктивистом Владимиром Луговским (1901–1957) в сотрудничестве с Эйзенштейном в 1942–1944 годах, исследователи справедливо называют «ужасающим» и «зловещим» по своему содержанию. «Поет Федька Басманов, — писал Виктор Шкловский, — сын знатного отца, старого опричника, богатого старого воина, упрямого человека. Все были они людьми, сдвинутыми страхом, страхом царя и возможностью делать всё безнаказанно, они двоедушны и даже двоеголовы, как Федька Басманов» [5], танцующий в женском платье и с личиной в руке. Т. М. Николаева обращает внимание на многоуровневую двойственность этого образа (в магическом исполнении актера Михаила Кузнецова), представляющего «противоестественное сочетание» «глупого белого женского лица (машкера-маски) и скрывающегося под ней воина со „змеиной душой“», контраст «между бабьим сарафаном» в начале и «той одеждой, что под этим сарафаном», столкновение «линий» демонического Вотрена и ангелоподобной Серафиты Бальзака и, наконец, противостояние «сладкого тенора Федьки и того ужасающего текста, который он исполняет» [6].
В киносценарии Эйзенштейна (написанном, как давно замечено, ритмической прозой [7], имитирующей в некоторых фрагментах народные песни-былины об Иване Грозном и отдаленно напоминающей лермонтовскую «Песню про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» [опубл. 1838] с ее фольклорными инверсиями и дактилическими окончаниями [8]), эта музыкальная сцена разыграна следую-щим образом:
В пляске кружатся опричники.
Между ними — девка в сарафане.
Машкер мертвой хищной улыбкой улыбается.
Оскалом песью голову напоминает.
От лица того белого,
сквозь пляс неподвижного,
еще хлеще пляс неистовый, еще чернее кафтаны черные.
<…>
Слышит Федька царские слова:
«Сирота я покинутый, любить-жалеть меня некому...»
Обида Федора берет.
Ревность берет Басманова:
Близость к царю Владимира волнует.
Тревогой глаза горят.
Вполприщура глянул на него Иван.
Подмигнул.
Успокоился Басманов:
понял, что игру заводит царь.
Пуще прежнего вьюном пошел.
Пуще прежнего крики: «Гойда! Гойда!»
Поет Федька, заливается:
«Гости въехали к боярам во дворы,
Загуляли по боярам топоры...»
Дико пляшут опричники:
«Гойда, гойда!
Говори, говори!
Говори, приговаривай,
Говори, приговаривай!»
Федор:
«Топорами приколачивай!»
Свист пронзительный.
Опричники:
«Ой, жги, жги, жги!»
<…>
Пуще прежнего крики: «Гойда! Гойда!»
Пуще прежнего ор и пляс.
Пуще прежнего Федька заливается:
«Раскололися ворота пополам.
Ходят чаши золотые по рукам».
Пуще прежнего пляшут опричники:
«Гойда, гойда!
Говори, говори!
Говори, приговаривай,
Говори, приговаривай!»
Федор:
«Топорами приколачивай!»
Свист пронзительный.
Опричники:
«Ой, жги, жги, жги!»
<…>
Лукаво Федька негромко поет:
«А как гости с похмелья домой пошли,