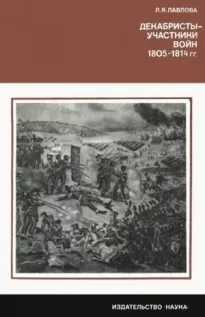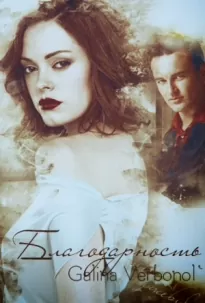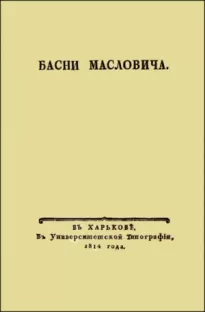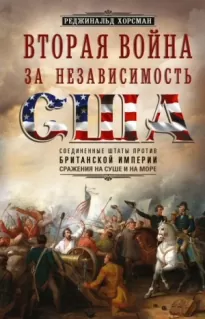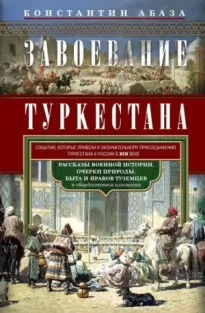От победы к миру. Русская дипломатия после Наполеона
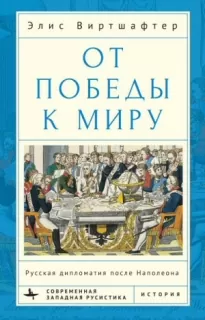
- Автор: Элис Виртшалфтер
- Жанр: История: прочее
Читать книгу "От победы к миру. Русская дипломатия после Наполеона"
Несмотря на очевидные разногласия, в июле 1818 года Татищев все еще ожидал, что король Фердинанд последует предложению ассимилировать политический и гражданский режимы колоний с режимом метрополии. Россия надеялась, что на основе этой политики Испания проведет в колониях административные реформы и представит план умиротворения союзным державам, собравшимся в Аахене. Далее предполагались переговоры о реализации этого плана. По словам Татищева, летом того же года испанское правительство продолжало надеяться на поддержку Великобритании. Но во время Аахенского конгресса Фердинанд приостановил обсуждение иностранного вмешательства в дела колоний. Поскольку состав испанского правительства изменился, Мадрид по-новому взглянул на британскую политику, осознав, что интересы Великобритании противоположны интересам Испании в отношении реставрации Бурбонов, международной торговли и независимости Испанской Америки.
Ссылаясь на сообщения Каса Ирухо и Сеа Бермудеса, Татищев сочувственно описывал состояние испанской политики до и во время Аахенского конгресса. В эпоху Реставрации главной задачей испанского правительства было «восстановить могущество Испании ради ее внутреннего благоденствия, придав ей силы, способные снова превратить ее в державу подлинно независимую и полезную для активной системы политического равновесия». Для этого испанским министрам предстояло понять, есть ли на полуострове ресурсы, необходимые для возвращения колоний. Соразмерив наличные ресурсы с расходами на колонии и размерами потерь, которые возникнут, если колонии обретут независимость, и трезво оценив «имеющиеся у мятежников моральные и материальные средства», испанское правительство пришло к выводу, что если Испания попытается возвратить себе колонии, то без жертв им не обойтись. Итак, процесс умиротворения с точки зрения Испании, как его описывал Татищев, был нацелен на то, чтобы укрепить власть метрополии благодаря милосердию и умеренности. Это означало, что императорскую власть предстояло восстанавливать путем не только силы, но и компромисса в отношении торговых интересов других государств, при условии, что такие компромиссы не были бы гибельны для самой Испании. Иными словами, Испания решила положиться на собственные мудрость и энергичность, чтобы избежать осложнений, связанных с иностранным вмешательством. И хотя после Аахенского конгресса связь между Александром I и Фердинандом VII по-прежнему сохранилась, все усилия Татищева по достижению умиротворения с привлечением других стран союза не увенчались желанным результатом.
Татищев полагал, что Лондон непременно должен принять участие в умиротворении испанских колоний, поскольку и в Великобритании, и в Соединенных Штатах интересы, мнения и настроения в обществе были направлены против роялистской Испании. Поэтому он в последний раз попытался убедить Испанию принять посредничество герцога Веллингтона, заявив, что о военном сотрудничестве между союзниками и Испанией не может быть и речи. В ответ испанское правительство усомнилось в эффективности как британского посредничества, так и морального духа европейского союза. По словам короля Фердинанда, Великобритания не могла оказать Испании искреннюю помощь, ведь этому препятствовали ее собственные торговые интересы. Испанское правительство также не наблюдало положительных результатов от переговоров с португальской Бразилией. Мысль Александра о том, что моральная поддержка всей Европы принесет Испании больше пользы, чем ее собственные усилия, была встречена с прежним недоверием. Как сказал Фердинанд Татищеву: «Надеюсь, Вы никогда не посоветуете мне проявить слабость»[414].
Татищев остался в Мадриде, и к концу марта 1819 года (НС) он, по крайней мере, смог сообщить, что британское правительство оценило его усилия по убеждению Испании принять предложение союзников о посредничестве[415]. В то же время он ясно пишет, что бессмысленно вести дальнейшие разговоры с испанским правительством относительно уступки колоний. На конференции в Париже министры продолжали обсуждать конфликт вокруг Рио-де-ла-Плата, и, несмотря на подозрения Фердинанда VII относительно переговоров, Татищев все же надеялся, что Испания примет соглашение с португальской Бразилией, предложенное в августе 1818 года[416]. В целом в своих дипломатических сообщениях Россия допускала возможность разрешения обеих проблем – как конфликта вокруг Рио-де-ла-Плата, так и вопроса об умиротворении колоний. Тем не менее российское Министерство иностранных дел неоднократно признавало свое поражение. Как объяснял Нессельроде в циркулярной депеше от 31 марта (12 апреля) 1819 года, адресованной российскому послу в Лондоне Ливену, посланникам в Вене Головкину, в Берлине Алопеусу и полномочному министру в Париже Поццо-ди-Борго, в Аахене было решено, что союзники поддержат идею посредничества между Испанией и ее американскими колониями под руководством герцога Веллингтона, если Испания признает недостаточность собственных ресурсов[417]. В рамках этого сценария Веллингтон возглавил бы работу по составлению плана умиротворения, отвечающего как нуждам, так и пожеланиям Испанской Америки, а посланники других держав выступили бы посредниками между Великобританией и Испанией, чтобы оберегать престиж дворов-посредников в глазах Мадридского кабинета и установить справедливый предел содействия английского правительства.
Татищеву было поручено объяснить план союзников испанскому правительству, однако ему не удалось добиться согласия Мадрида. Испания решила возвращать свои колонии лишь собственными силами, без какого бы то ни было иностранного вмешательства. Такой ответ не стал неожиданностью для российского правительства; с их точки зрения, он заслуживал «того уважения, с которым европейские государства в своей политике относятся к самостоятельности и достоинству всех правительств». Однако, как отмечал Татищев, желание Испании опираться лишь на собственные силы, достойное великой державы, было основано скорее на опасных иллюзиях, нежели на реальных фактах. Поэтому император Александр надеялся, что Испания взвесила свои действительные возможности. В Америке, например, Испания могла бы улучшить эти ресурсы благодаря системе управления, которая была достаточно великодушной и либеральной, чтобы объединить вокруг законного дела «интересы всех и, следовательно, все устремления». Российский монарх желал коронованному собрату успеха в будущем предприятии, хотя и сожалел, что Фердинанд отверг коллективную помощь союзников[418].
В этот период, когда европейскую политику как будто определяли религия и мораль, а в охранительной системе царили единство и мир, отношения Испании с великими державами, португальской монархией и испано-американскими колониями обнажили потенциально разрушительную динамику посленаполеоновского равновесия. Какой бы оторванной от реальности, неэффективной и реакционной ни казалась испанская монархия, пять великих держав, претендовавших на то, чтобы говорить от имени всей Европы, ничуть не более реалистично оценивали свою способность встроить второстепенные державы и сложные исторические процессы в собственное ви́дение европейского мира. Возможно, нежелание союзников оказать Испании военную помощь стало признанием этого неудобного факта. Эпоха Реставрации должна была стать той самой воображаемой le juste milieu гармонии, спокойствия и стабильности, однако Испания и Испанская империя не обрели ни на мгновения покоя [Broers 2014: 33–46].
После Аахенского конгресса союзники уже не считали себя обязанными защищать власть испанской короны в Америке. Тем не менее на протяжении 1819 года российское правительство продолжало надеяться, что политические реформы, исходящие от испанского правительства, приведут к умиротворению. Всего через несколько дней после военного мятежа, ознаменовавшего начало Испанской революции, император Александр вновь дал совет королю Фердинанду относительно отношений с португальской Бразилией и административной реформы, необходимой для всех его подданных[419]. Выступая от имени российского монарха, Татищев заверил Фердинанда в том, что Александр испытывает к нему самые дружеские чувства и заинтересован в благоденствии испанского королевства. Известия о январском мятеже еще не дошли до российского правительства, и потому на текущий момент актуальными вопросами были конфликт вокруг Рио-де-ла-Плата и восстановление прочных отношений, основанных на единстве и взаимной помощи, между Испанией и Испанской Америкой.
Прежде всего император Александр рекомендовал королю Фердинанду восстановить дружественные отношения с двором португальской Бразилии. Александр I по меньшей мере с 1815 года рассматривал концепцию христианского братства и дружбы между государями как важнейшие инструменты миротворчества. В данном случае российский монарх ожидал, что дружба между испанским и португальским королями приведет к решению конфликта вокруг Рио-де-ла-Плата. Дружеские отношения между Испанией и португальской Бразилией также подчеркнули бы благие намерения Фердинанда по отношению к народу и, следовательно, оказали бы благотворное влияние на его американских подданных. Переходя к конкретике, Александр советовал своему коронованному собрату уравнять в правах всех подданных испанской короны в обоих полушариях. Это бы гарантировало личную безопасность и неприкосновенность собственности и помогло бы свести на нет недовольство, раздуваемое авантюристами и сторонниками безначалия.
Со временем надежды российского правительства на испанскую реставрацию в Америке ослабли, особенно после того как на полуострове начались революция и гражданская война. Чтобы узнать об официальной позиции России относительно испанских колоний в первые месяцы Испанской революции, обратимся к двум запискам, сохранившимся в бумагах министра иностранных дел Каподистрии. Первый документ, датированный мартом 1820 года, начинается с рассказа о возмущениях в Испанской Америке в период с 1808 по 1817 год[420]. В качестве причин указывались признание Жозефа Бонапарта королем Испании, слабость вице-королей, управлявших колониями, политика Великобритании, а также распри между правителями и судебными чиновниками, действовавшими на различных территориях Испанской Америки. Ситуации не помогала и обстановка в самой Испании: неопределенный статус королевской власти, борьба с Фердинандом VII и Наполеоном, военные успехи Франции, дерзость политических фракций и отсутствие порядка в наполеоновском правительстве. Далее автор записки рассматривал модели восстаний в различных частях Испанской Америки, где за власть и легитимность боролись лоялисты, законодательные органы и отдельные юрисдикции. В записке подчеркивалось, что разгоревшаяся в Испании революция привела к потере политических ресурсов. Если бы на полуострове не разразился кризис, то беспорядки в Испанской Америке не переродились бы в полноценное восстание.
С точки зрения автора записки, постоянные восстания объяснялись неустойчивым положением Испании, которое началось с наполеоновского вторжения в 1808 году и продолжалось до возвращения короля Фердинанда VII в 1814 году. Исходя из уроков истории, он выдвинул максиму о том, что одно революционное движение неизменно порождает другое и тем самым объясняет волну восстаний по всей Испанской Америке. Пока роялистская верхушка пыталась сохранить нейтралитет в борьбе между Наполеоном и защитниками Фердинанда, демагоги и отдельные группировки использовали политическую неопределенность для распространения своего влияния. С этой точки зрения восстания в Испанской Америке представали результатом деятельности имущего класса и родовой элиты, участвовавших в обширном заговоре. Иными словами, восстания не представляли собой народное движение или «великую политическую революцию, основанную на принципах». Несмотря на участие низших слоев общества, автор не считал, что Американская революция воплощала в себе чаяния угнетенного народа, требующего перемен. Напротив, беспорядки в Испанской Америке возникли в результате деятельности анархистов, врагов порядка и согласия.