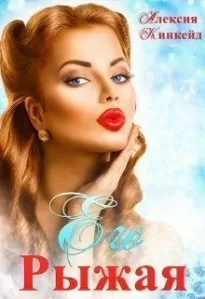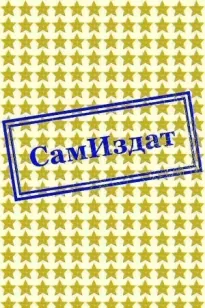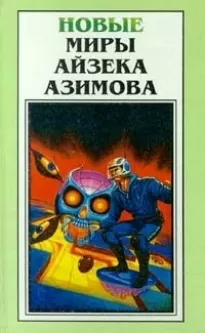О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного
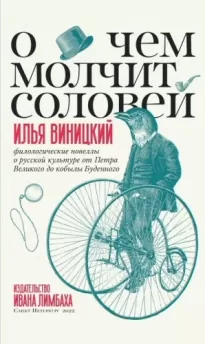
- Автор: Илья Виницкий
- Жанр: Самиздат, сетевая литература
Читать книгу "О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного"
Об этой загадочной смерти помнили долго. Она была своего рода знаком времени. Так, русский эмигрант Иван Головин в своей книге «La Russie sous Nicolas I-er» 1845 года вспоминал историю странной гибели Виткевича, труп которого «исчез, как труп простого матроса» («…et le cadavre de Vitkevitsch disparut comme celui d’un simple matelot») [20]. Бывший посол в Иране А. О. Дюгамель спустя 30 лет после самоубийства Виткевича писал, что «настоящие причины такого отчаянного поступка никогда не были обнаружены» [21]. Версии гибели Виткевича предлагались разные, но не они интересуют нас в настоящей заметке. История Виткевича и его смерти, как мы полагаем, представляет собой любопытный историко-психологический фон печоринской истории.
Итак, 30-летний поручик, романтический странствователь-авантюрист, подверженный приступам меланхолии, кончает с собой, вернувшись по исполнении тайной миссии из Афганистана и Персии. Смерть его получает огласку в русском обществе и иностранной прессе. Бумаги его исчезают. Конец Виткевича — трагический финал жизни так и не реализовавшего себя талантливого молодого человека и фиаско первой попытки российского участия в Большой игре. Большая игра
Знал ли Лермонтов об этой истории и можно ли предположить «шпионский след» в литературной биографии Печорина? Ответить на эти вопросы можно лишь предположительно. В 1839 году поэт находился в Петербурге. В это время он участвовал в собраниях так называемого «Кружка шестнадцати», состоявшего из молодых офицеров и дипломатов, отличавшихся известной оппозиционностью [22]. Как показал Ю. М. Лотман, восточный вопрос находился тогда в центре размышлений поэта, причем особое место в геополитической картине Лермонтова занимали Кавказ и Польша (Лотман предполагал знакомство поэта с взглядами одного из «шестнадцати» — графа Ксаверия Корчак-Браницкого об исторической миссии России на востоке). «Можно предположить, — говорит исследователь, — что в глубинном замысле <романа „Герой нашего времени“. — И. В.> „русский европеец“ Печорин должен был находиться в культурном пространстве, углами которого были Польша (Запад) — Кавказ, Персия (Восток) — народная Россия (Максим Максимыч, контрабандисты, казаки, солдаты). Для „Героя нашего времени“ такая рама в полном объеме не понадобилась. Но можно полагать, что именно из этих размышлений родился интригующий замысел романа о Грибоедове, который вынашивал Лермонтов накануне гибели» [23].
Позволим себе добавить, что в эту раму очень хорошо вписывается и история поляка Виткевича [24]. Разумеется, мы не утверждаем, что Виткевич был прототипом Печорина, но даже мимолетный намек на судьбу русского агента позволял Лермонтову придать литературной биографии своего героя большую таинственность и — историческую достоверность [25].
Так, мы полагаем, что решение Печорина ехать с рискованной дипломатической миссией на Восток психологически допустимо: еще одно испытание судьбы и еще одна попытка расшевелить душу, на этот раз даже в более экзотических, нежели Кавказ, обстоятельствах. (Ср. из письма Виткевича от 31 мая 1837 года к В. И. Далю: «В Тифлисе я буду дней через десять, а оттуда, съездив послушать свисту пуль черкесских, поскачу в Тегеран подышать воздухом чумы и прислушаться шепоту скорпионов — не правда ли, что это поэтически? А наше дело козацкое: добиваем как умеем скорее остатки жизни, — а все конца нет как нет» [26].) Секретная миссия Печорина могла бы объяснить и его явное нежелание говорить со старым другом Максим Максимычем, случайно повстречавшимся ему во Владикавказе. Наконец, туманное указание на путешествие преследуемого тоской молодого человека в Персию и дальше могло прочитываться современниками Лермонтова в контексте новой модели романтического поведения, постепенно вытеснявшей «байронический» стереотип. Речь идет о шпионской авантюре, призванной реализовать бесплодную жажду жизни и геополитические фантазии одинокого романтика (ср. восточные путешествия с секретной миссией молодых странников вроде В. Г. Теплякова).
Иначе говоря, и в предсмертном путешествии Печорин выступает как герой своего времени.
[1] Впервые: Солнечное сплетение. 2004. № 27.
[1] 22 Sep. 2003. Subject: [SEELANGs] Why is Pechorin going to Persia? См.: http://listserv.linguistlist.org/pipermail/seelang/2003-September.txt
[2] Дурылин С. «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова. М., 1940. С. 70–71. Сам Повествователь признается, что с первого взгляда на его лицо он «бы не дал ему более двадцати трех лет», хотя после «готов был дать ему тридцать» («Максим Максимыч»). По словам Максима Максимыча, Печорину было «лет двадцать пять», когда он впервые появился в крепости, а с тех пор прошло уже почти пять лет («Бэла»).
[3] Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени. СПб., 1996. С. 249.
[4] Цит. по: http://www.online-literature.com/shelley_mary/mathilda/3/
[5] Кюхельбекер В. К. Стихотворения. Т. 2. М., 1939. С. 64. Курсив мой. — И. В.
[6] Сама «речная» фамилия «Печорин» отсылает не только к Онегину, но и к герою Кюхельбекера. Известно, что мистерия Кюхельбекера повлияла и на лермонтовский «Маскарад».
[7] Эйхенбаум Б. «Герой нашего времени» // Эйхенбаум Б. О прозе. О поэзии. Л.: Художественная литература, 1989. С. 316.
[8] Ср.: «...ее легкий ход, удобное устройство и щегольский вид имели какой-то заграничный отпечаток»; «балованный слуга ленивого барина — нечто вроде русского фигаро» («Максим Максимыч»). Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени. С. 86.
[9] Марченко А. М. Печорин: Знакомый и незнакомый // «Столетья не сотрут...» Русские классики и их читатели. М.: Книга, 1989. С. 179.
[10] Там же.
[11] Терентьев М. А. История завоевания Средней Азии. СПб., 1906. Т. 1; Халфин Н. А. Драма в номерах «Париж» // Вопросы истории. 1966. № 10; Kessler M. M. Ivan Viktorovich Vitkevich, 1806–1839: a Tsarist agent in Central Asia. Kessler. Washington, D. C.: Central Asian Collectanea, 1960.
[12] Семенов Ю. С. Дипломатический агент (1959); Гус М. С. Дуэль в Кабуле (1964); Пикуль В. С. Опасная дорога в Кабул (1992); Hensher Ph. The Mulberry Empire, or The Two Virtuous Journeys of the Amir Dost Mohammed Khan (2002); Рудницкий А. Виткевич. Бунтарь. Солдат империи (2019).
[13] Записки Песляка // Исторический вестник. 1883. № 9. С. 584.
[14] «Я удовлетворю совершенно мою страсть к приключениям...». Письма И. В. Виткевича к В. И. Далю // Гостиный двор. 2005. № 16; см.: http://drevlit.ru/texts/v/vitkevich_dal.php
[15] Они познакомились в июле 1837 года в Тифлисе.
[16] Бларамберг И. Ф. Воспоминания. М.: Наука, 1978. С. 156.
[17] Халфин Н. А. Возмездие ожидает в Джагдалаке: историческое повествование. М., 1973. С. 196–197.
[18] Русский архив. Т. 23. Ч. 2. 1885. С. 112.
[19] Бларамберг И. Ф. Воспоминания. С. 163.
[20] Golovine I. La Russie sous Nicolas Ier Paris, 1845. P. 142.
[21] Русский архив. Т. 23. Ч. 2. 1885. С. 105.
[22] «Каждую ночь, возвращаясь из театра или бала, они собирались то у одного, то у другого. Там после скромного ужина, куря свои сигары, они рассказывали друг другу о событиях дня, болтали обо всем и все обсуждали с полнейшей непринужденностью и свободою <…>» (Исторический вестник. 1895. Кн. 10. С. 176).
[23] Лотман Ю. М. «Фаталист» и проблема Востока и Запада в творчестве Лермонтова // Лотман Ю.М. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М.: Просвещение, 1988. С. 231.
[24] Польское происхождение Виткевича как знатока Востока является знаковым для эпохи. Как отмечает Лотман, «доля польских ученых и путешественников в развити славянской (в том числе и русской) ориенталистики была исключительно велика» (Лотман Ю. М. «Фаталист» и проблема Востока и Запада. С. 229).
[25] Над главой «Максим Максимыч» Лермонтов работал в 1839 году. Предисловие к «Журналу Печорина», в котором сообщается о смерти героя, относится к концу 1839 года. Оно написано на отдельном листе, приклеенном к рукописи, содержащей автографы «Максим Максимыча», «Фаталиста» и «Княжны Мери».
[26] Цит. по: Матвиевская Г. П. Владимир Иванович Даль в Оренбурге. Оренбург, 2007. С. 425.
ТАИНСТВЕННЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ
Какую роль играет готический герой в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети»
— Как вы полагаете, что думает теперь о нас этот человек? — продолжал Павел Петрович, указывая на того самого мужика, который за несколько минут до дуэли прогнал мимо Базарова спутанных лошадей и, возвращаясь назад по дороге, «забочил» и снял шапку при виде «господ».
— Кто ж его знает! — ответил Базаров, — всего вероятнее, что ничего не думает. Русский мужик — это тот самый таинственный незнакомец, о котором некогда так много толковала госпожа Ратклифф. Кто его поймет? Он сам себя не понимает.
— А! Вот вы как! — начал было Павел Петрович... [1] Кто же его знает!
После глупой дуэли раненый Павел Кирсанов неожиданно спрашивает своего противника, что может думать о них снявший шапку при виде «господ» мужик — тот самый, которого нигилист и его комичный напуганный «секундант» Петр встретили по дороге на поединок и который, не преломив шапки, как-то странно посмотрел на Базарова («недоброе предзнаменова-ние», по мнению суеверного Петра). В ответ Базаров произносит приведенные выше слова о таинственном готическом незнакомце, который сам не знает, о чем он думает и чего хочет.
Шутка Базарова зла (наверное, обиделся) и остроумна, но звучит несколько странно в устах далекого от словесности нигилиста. Молодой доктор, даже Пушкина не читавший (или читавший только что-то радикальное о Пушкине), ссылается на писательницу дедовских (и бабушкиных) времен, одну из создательниц готического романа, смешного для человека, мыслящего современно. О каком именно таинственном персонаже так много толковала, по его мнению, Радклиф?
Комментаторы пишут, что таинственный незнакомец — условный персонаж, часто встречающийся в романах английской писательницы [2]. Это утверждение слишком общо и требует конкретизации. Самый знаменитый таинственный незнакомец («a mysterious stranger»), который стал образцом для последующих произведений в этом жанре и преломился в «легионе» персонажей русской романтической литературы от Карамзина до Греча, Кюхельбекера, Погодина, Загоскина и Лермонтова — герой романа «Итальянец, или Исповедальня кающихся, облаченных в черное» (The Italian; or, The Confessional of the Black Penitents: A Romance, novel by Ann Radcliffe, 1797). Этот герой — убийца, нашедший пристанище в монастыре, — появляется в начале романа, постоянно «толкает» сюжет к разгадке тайны и гибнет, выполнив свою миссию.
Его запоминающийся портрет быстро стал стереотипом в романтической литературе: долговязый мужчина, в плаще, с надвинутой на глаза шляпой, сверкающим из-под нее свирепым взглядом, говорящий глухим голосом. Отсюда взяли его Мэтьюрин, Вальтер Скотт, Вашингтон Ирвинг и другие авторы, включая анонимного публикатора напечатанной в 1852 году в Англии повести о карпатском вампире, послужившей, как полагают, источником стокеровского Дракулы. Этот таинственный незнакомец в романтической литературе имел ярко выраженную экзотическую (этническую и мистическую) окраску и выступал под разными национальными (чаще всего южными или ориентальными) «флагами» — итальянец, грек, армянин, трансильванец, индус, китаец, еврей (вечный), иногда — Антихрист, дьявол, иногда — ангел-хранитель идеальных возлюбленных, иногда — суровый мститель, карающий преступ-ную душу, иногда — прорицатель, приоткрывающий завесу будущего.