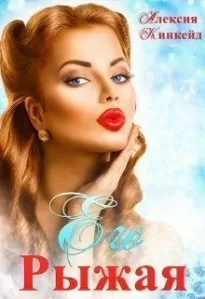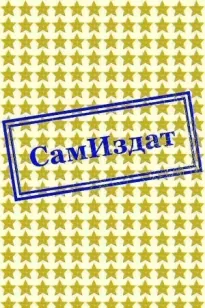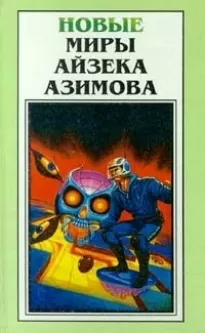О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного
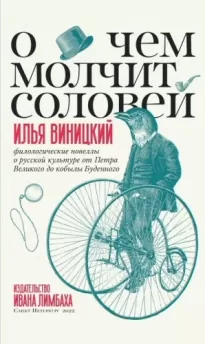
- Автор: Илья Виницкий
- Жанр: Самиздат, сетевая литература
Читать книгу "О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного"
[10] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 15. Л., 1976. С. 590.
[11] Не аллюзия ли на начальную сцену «Войны и мира», описывающую салон страдавшей модным гриппом Анны Шерер?
[12] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 15. С. 75.
[13] Там же. Т. 15. С. 591.
[14] Шашков С. С. [S. S.]. Календарное мастерство // Дело. 1879. № 1. С. 22.
[15] В библиотеке Достоевского были книги К. Фламмариона «История неба» (издания 1875 и 1879 годов) и «Небесные светила» (М., 1865), а также странная книга Шепфера «Противоречия в астрономии» (СПб., 1877), в которой учение Коперника опровергалось с религиозной точки зрения. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 25. С. 400.
[16] Туниманов В. А. Сатира и утопия («Бобок», «Сон смешного человека» Ф. М. Достоевского) // Русская литература. 1966. № 4; Milosz C. Dostoevsky and Swedenborg // Emperor of the Earth: Modes of Eccentric Vision. Berkeley, 1977; Кийко Е. И. К творческой истории «Братьев Карамазовых». 1. Реализм фантастического в главе «Черт. Кошмар Ивана Федоровича» и Эдгар По. 2. Лексикологическая заметка: «пачкать» или «пичкать» // Достоевский: Материалы и исследования. Л.: Наука. 1985. Т. 6; Vinitsky I. Where Bobok Is Buried: The Theosophical Roots of Dostoevskii’s «Fantastic Realism» // Slavic Review. Autumn, 2006. Vol. 65. No. 3 (Autumn, 2006).
[17] Достоевский. Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 4. С. 210–211.
[18] Perlina N. Dostoevsky and His Polish Fellow Prisoners from the «House of the Dead»// Polish Encounters, Russian Identity / Ed. by David L. Ransel and Bożena Shallcross. Bloomington, 2005. P. 107.
[19] Żochowski J. Filozofia serca, czyli mądrość praktyczna. Warszawa, 1845. S. 202.
[20] Ушинский К. Д. Детский мир и хрестоматия. Ч. 2. СПб., 1869. С. 199.
[21] Журнал министерства народного просвещения. Т. 10. 1835. С. 199.
[22] Русский вестник. Т. 5. 1856. С. 234–235.
[23] См.: Любимов Н. А. Начальная физика: в объеме гимназического преподавания. Изд. 2-е. М.: Университетская типография, 1876. С. 419; Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 15. С. 333.
[24] Русский вестник. Т. 67. 1880. С. 100.
[25] О значимости декартовской системы для Достоевского в 1870-е годы писал Дмитрий Чижевский (Čyževśkyj D. Literarische Lesefrüchte II: (10). Der Teufel Ivan Karamazovs und N.N. Strachov // Zeitschrift fur slavische Philologie. 1933. X (3/4)). Сам черт Ивана ссылался на ее центральный постулат.
[26] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 301. С. 205.
[27] Там же. Т. 15. С. 78.
[28] Там же.
[29] Шевцов В. В. Историческая метрология России. Томск, 2007. С. 219–223.
[30] Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой: материалы к биографии. М., 1963. С. 154.
[31] Верн Ж. Вокруг луны. Рассказ. Перевод с фр. [Марко Вовчок] // Русский вестник. Т. 84. Ноябрь. 1869. C. 111.
[32] Верн. С. 110.
[33] Верн. 1869. Ноябрь. С. 123.
[34] Верн. 1869. Декабрь. С. 55.
[35] Верн. Ноябрь. С. 56.
[36] См.: Ронен О. К сюжету «Стихов о неизвестном солдате» Мандельштама // Slavica Hierosolymitana. 1979. С. 214; Ронен О. Поэтика Осипа Мандельштама. СПб., 2002. С. 97.
[37] Мережковский Д. С. Царство Антихриста: статьи периода эмиграции. СПб., 2001. С. 154–155.
[38] Лагин Л. И. Старик Хоттабыч. Патент «АВ». Остров Разочарования. М., 1961. С. 200.
[39] Бем А. Л. «Фауст» в творчестве Достоевского // О Dostojevském: Sbornîk stati a materialù. Praha. 1972. S. 194–195.
[40] Milosz C. Dostoevsky and Swedenborg. P. 120–143.
[41] Цит. по: Волгин И. Л. (публ.). Достоевский Ф. М. Фрагменты «Дневника писателя» // Литературное наследство. М., 1973. Т. 86. С. 68–69.
[42] Vinitsky I. Where Bobok Is Buried. P. 523–543.
[43] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 15. С. 72.
[44] Там же. Т. 15. С. 335.
[45] Крылов И. А. Сочинения. М.: Правда. 1969. Т. 1. С. 157.
[46] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 27. С. 31.
[47] Мень А. Почему нам трудно поверить в Бога? М., 2008. С. 347. Цит. по: https://predanie.ru/book/164400-pochemu-nam-trudno-poverit-v-boga/
[48] Перевод цит. по: https://www.wikiwand.com/ru/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0
[49] Блюм А. В. Каратель лжи или книжные приключения барона Мюнхаузена. М., 1978. С. 41.
[50] Путевыя чудесныя приключения барона Мюнхаузена. Пер. К. М.. London, 1860. С. 32.
[51] Цит. по: Блюм А. В. Каратель лжи. С. 56–57.
[52] Смирнов Д. На МАКСе Путину показали новейший вертолет и... летающий топор // Комсомольская правда. 2015. 26 августа. С. 2.
[53] Сульдин А. Летающий утюг и махолёт показали на выставке к 150-летию Чаплыгина; см.: https://nsknews.info/materials/letayushchiy-utyug-i-makholyet-pokazali-na-vystavke-k-150-letiyu-chaplygina/ См. также: https://www.youtube.com/watch?v=LwCKIxDrvOQ
УЛЮЛЮЛЮ, ИЛИ БРАНЬ И МИР
Как и зачем ругался Лев Толстой (из охотничьих рассказов филолога)
Идет она и спит. И видит сон, будто идет к ней навстречу Лев Толстой и в руках ночной горшок держит. Она его спрашивает: «Что же это такое?» А он показывает ей пальцем на горшок и говорит:
— Вот, — говорит, тут я кое-что наделал, и теперь несу всему свету показать. Пусть, — говорит, — все смотрят.
Д. И. Хармс
На одной давней американской конференции мне довелось прослушать интересный доклад российской коллеги, работавшей над новым собранием сочинений Л. Н. Толстого. Доклад был по-английски, и докладчица, как и я, произносила долгие английские гласные как короткие. В какой-то момент, говоря о том, как трудно читать рукописи Толстого, она обратилась к аудитории с риторическим предложением: «А теперь я вам покажу то, что многие из вас никогда не видели — «Tolstoy’s shit» (то есть, как оказалось, имелась в виду копия рукописного листа — «Tolstoy’s sheet», — но вышло, по законам русской речи, — с кратким «i»). Реакция сидевших в зале толстововедов была неожиданной и показательной: поняв истинное намерение докладчицы, они были ужасно разочарованы невыполненным (непреднамеренным) обещанием.
Действительно, все мы знаем почерк Толстого, его растущую и седеющую на фотографиях и портретах бороду, его густые брови и толстый нос, его рубашку, его палку, его пишущую машинку и любимую лошадь, его записанный на фонограф Эдисона голос и походку, сохраненную видеохроникой, но то, что по законам естества никак не могло миновать вечности жерла, ни один из самых дотошных и знающих толстововедов (даже тех, кто сейчас участвует в конференции в Ясной Поляне) никогда не видел и явно был бы не прочь увидеть хотя бы из археологического азарта.
Я понимаю, что этот анекдот довольно нечист, но он рисует, как мне кажется, риторические обычаи самого Льва Николаевича и для того мне и понадобился. Предлагаемые две просветительские заметки (или фило-охотничьих очерка), приуроченные к началу нового учебного года, посвящены теме неприличного Толстого, дошедшего до нас в той или иной форме. Первая — о том, как работают бранные слова в его творчестве. Вторая — о том, каким представлялся Толстой-грубиян современникам и потомкам.
I. Брань и мир
Скатологическая тема у Льва Толстого
Е.Б.Ж.*
Л. Н. Толстой Ж...
В эпопее «Война и мир» ловчий графа Ильи Андреевича Ростова крепостной Данило обрушивается на своего упустившего волка хозяина парой крепких выражений. Начиная с первого издания эпопеи эти слова неизменно приводятся с купюрами, но их экспрессивный смысл читателям нескольких поколений вполне внятен:
«Когда он увидал графа, в глазах его сверкнула молния.
— Ж...! — крикнул он, грозясь поднятым арапником на графа. — Про...ли волка-то!.. охотники!
— И как бы не удостоивая сконфуженного, испуганного графа дальнейшим разговором, он со всей злобой, приготовленной на графа, ударил по ввалившимся мокрым бокам бурого мерина и понесся за гончими. Граф, как наказанный, стоял, оглядываясь и стараясь улыбкой вызвать в Семене сожаление к своему положению. Но Семена уже не было».
В первоначальной редакции этой сцены Данило ругался еще похлеще:
«— Улюлюлю, — крикнул еще раз в поле Данила.
— Береги распро...... ж...а, — крикнул он, со всего размаха налетая с поднятым арапником на графа.
Но, и узнав графа, он не переменил тон.
— Проб...ли волка-то. Охотники».
Чтобы снять все стыдливые точки, я запросил коллег, работающих над новым академическим изданием сочинений Толстого, что же там стоит в рукописи, но пока ответа не получил. Впрочем, с высокой степенью уверенности можно полагать, что Данило изначально высказал графу следующее: «Береги (охотничий термин, означающий приближение зверя. — И. В.)! распроклятая ж<оп>а!.. Проб<зде>ли волка-то».
Это сильное (крепкое) место в эпопее, почему-то напоминающее мне знаменитое «ужо тебе!» грозящего царю маленького человека, привлекло к себе внимание тонкого литературоведа Сергея Бочарова. В его интерпретации «в критическую минуту погони за волком» граф Ростов и его крепостной как будто поменялись местами:
Старый граф прозевал, и разъяренный Данило, в глазах которого молния, грозит ему поднятым арапником и обругивает крепким словом. И граф стоит как наказанный, тем признавая за Данилой право в эту минуту так обращаться с ним.
Зато когда дело окончено, борьба позади, Данило перед барином снова — со сдернутой шапкой, застенчивой и «детски кроткой и приятной улыбкой». В нем не узнать теперь того решительного и властного человека, который только что был хозяином охоты. Теперь у него только один небольшой свой природный размер и рост, — тот, что предписан ему его социальной судьбой. Нет больше эффекта преображения почти фантастического.
А теперь перенесемся еще раз от сцены охоты к большому миру всей эпопеи: поведение ловчего на охоте не есть ли в миниатюре прообраз ситуации двенадцатого года? Разве не близок всему Данилиному облику образ «дубины народной войны»? На охоте, где он был главной фигурой, от него зависел ее успех, крестьянин-охотник всего на мгновение становился господином над своим барином, который на охоте был бесполезен.
Интерпретация Бочарова точна и замечательна, но нуждается, на мой взгляд, в некоторой психологической нюансировке. «Карнавальное» время охоты, переворачивающее социальную иерархию, действительно заканчивается. Все возвращается в традиционные социальные рамки и иерархические «масштабы», но отношения между старым графом и ловчим в финале охотничьей истории оказываются более сложными, чем до этого инцидента, — я бы сказал, семейно-человечными, или, используя терминологию Михаила Бахтина, «телесно-фамильярными». Вспомним, что после того, как волк был в итоге затравлен Николаем, граф Илья Андреич несколько заискивающе обращается к стоящему подле зверя Даниле: «— О, материщий какой, — сказал он. — Матерый, а?» «— Матерый, ваше сиятельство, — отвечал Данило, поспешно снимая шапку». (О том, что высказал в своей душе в этот момент сам волк, Толстой не сообщает.) И все же не преломленной шапкой завершается сцена и глава, а следующим диалогом:
Граф вспомнил своего прозеванного волка и свое столкновение с Данилой.
— Однако, брат, ты сердит, — сказал граф. Данило ничего не сказал и только застенчиво улыбнулся детски-кроткой и приятной улыбкой.
Во-первых, старый граф все еще чувствует свою вину, он сконфужен, но ищет примирения или даже прощения, скрытого под видом добродушного упрека. Во-вторых, обезоруживающая, как у ребенка, улыбка грозного охотника свидетельствует не столько о его «умалении» и восстановлении патриархальной лестницы (барин-отец — крепостной-ребенок с заломленной шапкой), сколько о взаимопонимании и добродушном сочувствии — дескать, «бывает, барин, ничего».