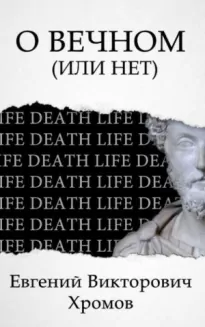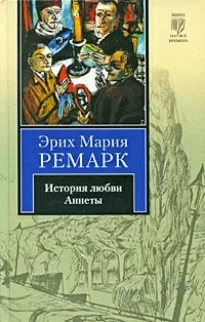Гьяк

- Автор: Димосфенис Папамаркос
- Жанр: Современная проза / Историческая проза
Читать книгу "Гьяк"
Тарарарура
Чего? А, вот это вот, на руке? Да нет, не мартеничка[16]. Это ж до каких пор мартеничку носить? Пасха ведь уже прошла! Это я уж давненько ношу. Еще до того, как женился. Это мать моя оберег мне такой сплела. Тут узлы с заговорами завязаны, от нечисти. А ты не смейся! Тогда, было время, люди многое видеть умели, потому как вера была. А теперь мы, поди, сами все в чертей превратились. Так что и всю нечисть распугали.
Я тоже однажды видел. Правда, вот те крест. А как спасся-то – чудом только! Шел я, значится, как-то вечером из Алогопатисьи, ну, там, где теперь перекресток, чтоб к Хильяду ехать. Отец меня туда послал, осла перевязать. Так у нас тогда водилось. Привязывали мы их в одном месте на веревке, посвободнее, так что животное там паслось вокруг и выщипывало все, наподобие гумна. А потом, на тебе, приходили мы, отводили его подальше и перевязывали на новое место. Ну, короче говоря, отправился я уже поздно, и пока я дошел дотудова, да дело сделал, да стал обратно собираться, уже смеркаться начало. Говорю я сам себе: давай-ка пошевеливайся, Стаматис, как бы тебя ночь не застала, так что и домой не сможешь вернуться. Думаю я так-то, значится, по большой дороге уж не успею вернуться. Ладно, говорю, срежу через рощу, есть там тропинка одна, выйду прямиком к святой Параскеве, а там, даже ежели и ночь меня застигнет, я уж и море увижу, так что и дорогу смогу отыскать. Так-то рядом там загонов овечьих не было, так что собак не надо было бояться, я и пошел бодрячком.
Иду я, значится, вот тута вот срезаю, прохожу прямо над Каниской и выхожу в Айтолими. Но я плохо рассчитал-то, вишь, потому как Айтолими смотрит на запад, а в том месте, где я шел, солнце уже скрылось, так что там темно стало. Где уж мне было тропинку разглядеть, где уж дорогу разобрать! Двинул я наверх, на хребет, прям через ежевику. Мне уж никак нельзя было больше мешкать, иначе бы на ощупь идти пришлось. Раз-два, я уже полпути наверх прошел, как слышу позади себя – какая-то возня. Я вот так вот – раз! – посмотрел. Нет ничего. Да ладно, говорю, я, должно быть, камень какой пнул ногой, когда наверх поднимался. Прошел еще пару шагов. Опять то же самое. Забеспокоился я. Да, наверно, собака какая, думаю. Взял палку, стою. Тю-тю-тю, позвал я. Ничего. Тишина. Ни лая, ничего. Опять. Смотрю. Да что мне было глядеть-то? Я разве мог что увидеть? Я даже куда ногу ставить, и то не мог разглядеть хорошенько. Говорю себе: это все в голове у тебя, Стаматис, давай, пошевеливайся, не теряй времени. И вдруг, когда я должен был уже обратно повернуть, слышу: тарарарура, тарарарура. У меня кровь в жилах застыла. Коленки у меня подкосились. Тарарарура, тарарарура. И снова шум, будто шаги чьи-то по камням шелестят. И все ближе становятся.
Я так перепугался, что аж застыл на месте. Ни вперед не мог пройти, ни назад обернуться, чтобы посмотреть, что там. Я одно только знал, что не человек это, потому как тогда, видишь ли, народ ночью не шастал. Да еще в такой глуши, где я был. Перекрестился я, говорю про себя: Боженька, помоги мне ноги унести. Только я сказал это, как раз! будто кто-то тяжесть с меня снял и вперед меня подтолкнул. Снова начал я идти, побыстрее, но от страха у меня все ноги заплетались, и я спотыкался. Ночь была, так что я вообще ни зги не видел. Ой, мамочки! Сердце мое билось как барабан. Ну, короче говоря, вышел я на хребет, говорю: Матерь Божья, ну, сейчас будет мне посветлее, будет видно. И там я снова это слышу, совсем рядом: тарарарура, тарарарура. Беги, беги, козленочек. Ежели я захочу, так, думаешь, не догоню тебя? Поднял я палку и ударил в ту сторону, где голос услышал. Тарарарура, тарарарура. Глупый ты птенчик, говорит он мне, ты что думаешь, я собака какая, что палки испугаюсь? И я вот так вот делаю, поворачиваюсь и вижу его прям перед собой. Черный, морда, как у собаки, с такими рогами, наподобие коровьих. Он хохотал, так что виднелись зубы.
Меня мороз продрал, потому что в эту минуту я вспомнил, что говорили, будто в этих местах давно уже один разбойник помер, а поскольку его не закопали в землю по-человечески, он бродил по ночам, как вурколак. Что молчишь, козленочек? По моим владениям бродишь и даже слова не скажешь? Обижаешь ты меня. Тарарарура, тарарарура. Я делаю пару шагов назад, потому как тот слишком близко ко мне подошел и его дыхание воняло чем-то, как порох. Говори, козленочек, или я язык твой сожру. Я весь трясся и все назад пятился, и вот так вот я шел все назад, назад, пока не споткнулся и не начал катиться по всему склону в сторону деревни. В какой-то момент остановился я, хотел подняться, как вижу, сидит он на корточках передо мной, протягивает мне руку, всю в когтях, и говорит: давай я помогу тебе встать, козленочек. Ты даже ходить-то не умеешь. Как только меня Господь надоумил, так что я совсем было уж хотел руку ему протянуть, но назад ее отдернул. Потому как говорят, что ежели заговорить с ним или коснуться его, тогда он получит власть делать с тобой что хочет. А ежели нет, если ты крещеный, он может все говорить-говорить, но рукой коснуться не может.
Встаю я еле-еле и даже не смотрю никуда, начинаю бежать в ту сторону, где горела лампадка в придорожной часовенке, на краю деревни. Меня царапали колючие кусты и камни, а я так старался, что мне это все равно было. Но и тот не отставал, приближался ко мне и все говорил мне разные вещи. То младенцем плакал, то кричал, как старуха, то блеял, как козел и собака одновременно, да все говорил мне, издевался, нет, мол, тебе спасения, я сожру твою печень, чесночная ты душа, дом твой найду, и пока вы спать будете, всеми вами и поужинаю. Он, вишь, хотел заставить меня с собой заговорить, чтоб я просил его оставить меня в покое. Я же взял ноги в руки и несся как сумасшедший. Когда луна взошла, я уже почти до деревни добежал, но дыхание у меня сбилось, так что я думал, все, упаду прям здесь наземь, здесь и концы отдам. И пока я вот так вот делал, чтоб голова перестала кружиться, хоп! – опять он передо мной. И теперь его еще лучше было видно, потому как лунный свет появился. Я никогда его не забуду. На нем была разодранная рубашка, а снизу был он вообще совершенно голый. Тарарарура, козленочек, говорит он мне. Думаешь, ты от меня сбежал? Скоро, скоро ты подохнешь. На войне. А потом уж я тебя разыщу, дырки в твоих костях проделаю и смастерю из них дудочку. Начал я снова бежать, и пока я понял, что он больше за мной не гонится, я уже добежал до кофейни Василиса, что на площади. Он, видишь ли, в деревню не заходил, потому как была она освященной по обряду. Освятил ее владыка миром и всяким таким прочим из Константинополя, а такой запах тот на дух не переносит.
Как зашел я домой, мать меня увидела, одежда – в клочья, она и давай меня бранить. Я – молчком. Что мне сказать-то было? Я так перепужался, что у меня язык к небу прилип. Пошел я прямиком к иконам, перекрестился и весь вечер отченаш читал. А из дома я ночью больше даже и думать забыл выходить.
Где-то через год взяли наш призыв, боевая подготовка и быстренько на малоазийский фронт. Я-то уж и не сомневался даже, что помру, потому как говорят, что последнее слово, которое вурколак тебе скажет, всегда правда, так что меня это и не заботило. Я так сказал, что, мол, уберечься я не смогу, и ежели суждено мне умереть, так пусть я умру стоя. Так я и был везде первым, и все меня за храбреца держали.
Что? Эй, ну разве это возможно, ах ты, дурачок, чтобы я умер, а сейчас с тобой разговаривал? Да не знаю почему. Я совсем там веру потерял. Может, и поэтому. Такие вещи я и сам там вытворял и повидал, что понял – нет хуже чертей, чем люди.
Баллада
По вечерам, когда прохожих темень разгоняла,
и все скорей спешили в дом, чтоб у огня собраться,
чтоб не застала темнота на улице крещеных,
чтоб из опасных мест уйти в час неурочный,
тогда и я спешил к огню, скорей, к теплу лампады,
чтобы под красный угол сесть и съесть свой скромный ужин.
А дед брал стул свой и садился рядышком со мною,
он говорил-пришептывал на странном на наречье,
рассказывал истории и чудеса из детства.
Рассказывал о домовом, что портил все упряжки,
о страшном черте маленьком, его он встретил ночью,
стоял тот черт на корточках на крупе на ослином.
Рассказывал мне, что у нас, на наших землях темных,
Харон[17] свой правил черный бал, точил всех подчистую,
но мертвые у нас в земле чегой-то не держались,
а все вставали из могил своих – такое дело.
Веревкой толстой потому и руки им вязали,
и потому в могилы вниз лицом закапывать их стали.
Но если будут мертвецы толкаться, чтобы выйти,
тогда в могилу им воткнут стальной нож с ручкой черной[18],
чтоб протыкал их каждый раз, как вылезти замыслят.
И страшно было мне, но не просил я дедушку замолкнуть,
меня внутри, точно червяк, точило любопытство.
Зачем же мертвецы встают и ходят по дорогам?
Старик вытягивал к огню поближе свои ноги
и начинал мне говорить, рассказывать былое:
Харон шел мимо как-то раз, печальный и тяжелый,
путем он долгим долго шел, томила его жажда,
остановился он испить водицы из колодца.
Берет веревку он с седла, черней, чем его сердце,
сплетенную из двух, из трех, да из десятка прядей,
из черных кос одной вдовы да плакальщицы горькой.
Крепка веревка при дожде, при солнце и при плаче.
Как слышит причитания, сжимается, кусает
и жалит, будто черная гадюка, своим жалом.
Парней он вяжет к елочкам, к соснам он вяжет девок,
а маленьких младенчиков к кустам он низким вяжет.
И обратился он к коню, к Гривасу расписному:
– Пойду к колодцу за водой, наполню бурдюки нам,
напьешься ты, напьюсь и я, устали мы с дороги.
Колодец далеко стоит, на краешке обрыва,
я сам пойду туда один, водицы принесу нам.
А ты постой и посмотри, пусть мертвые не плачут,
пусть не пугают наш родник, овраг пусть не пугают,
не то вода-то вспять пойдет, иссякнет и колодец.
– Иди, испей, да принеси и мне воды студеной,
чего впустую говорить, смотрю я за рабами.
Заткнул за пояс острый нож, за спину лук повесил,
и драгоценный свой бурдюк он взял и в путь собрался.
Сквозь тернии шагает он, с камня на камень скачет,
и там, где был уже обрыв, он встал да и помедлил.
Как море, был глубоким он, как ворон, был он черным.
Содрогнулся тогда Харон, но мучит его жажда —
студеная вода на дне колодца блещет.
Он ставит ногу правую, которой царей топчет,
и по тропинке по крутой он начал вниз спускаться.
Даже с десяток саженей пройти он не успел так,
как слышит из оврага он, как кто-то молвит слово,
поет, как птица, да кричит, как филин полуночный.
Зовет он верного коня, Гриваса вопрошает:
– Я наказал тебе смотреть за ними – мертвецами,
пусть не пугают мне родник, чтоб не иссяк колодец.
Но у тебя они кричат и речи произносят.
А вороной ему в ответ заржал и отвечает:
– Ни звука нет от мертвецов, они спят, как младенцы.
А ежели ты услыхал плач, крики, причитанья,
в овраге лучше погляди, найдешь, кто слезы льет там.
Налево смотрит – никого, направо – ни души там,
вниз посмотрел в расселину, на самое дно бездны,
вдруг видит: девица сидит, малютка, словно птичка,
на ней зипун черней земли, черный как смоль платочек,
и воду черпает она, кувшины наполняет.
Уж подивился тут Харон девице с храбрым сердцем,
спустилась в самый низ она по острым да по скалам,
куда не всякий дикий зверь осмелится спуститься.
Тогда задумал дело он, замыслил он такое,
чтоб поднесла ему со дна воды сама девица,
ведь беспросветной бездны той шибко Харон боялся.
Свои он кудри распустил, грязью лицо измазал,
чтоб не узнала так его по внешности девица,
чтоб не увидела, что он – Харон, и не сбежала.
И голос он другой берет – послаще, поприятней,
такой, каким обманывал он воинов-героев,
чтоб те бежали выполнять все дикие приказы.
– Здравствуй, девица милая, здравствуй, красавица,
ты храбрая, как молодец, удалая, как парень,
и не страшишься ты ступить в глубины бездны черной.
Пусть справедлив и милостив Господь к тебе да будет!
А я вот что тебе скажу, прошу одной услуги.
Я из чужбины путь держу, уж месяцев с десяток,
иду родных я повидать, соскучился по дому,
а путь мой труден и далек, а путь мой весь тернистый.
Сносились башмаки мои, босой брожу по свету,
кровью и потом с ног моих окрасил я дороги.
Устал бродить я и решил немного отдохнуть здесь,
бурдюк свой приложил к губам, но нету в нем ни капли,
и словно жжет огонь дрова, так жжет меня и жажда.
От этой муки я прошу тебя меня избавить,
ты наполняешь свой кувшин, так дай и мне немного —
нельзя страннику отказать в воде, еде и крове.
Два глаза снизу в бездне той, среди теней тех темных,
сверкнули, словно звездочки на темном небосклоне,
когда девица подняла свой взор, чтобы увидеть,
того, кто говорит с ней так, как с матерью ребенок:
– Хоть и запачкал ты лицо, хоть кудри распустил ты,
узнала я тебя, владыка царства мертвых.
И как гремят булыжники, что катятся с горы вниз,
таким выходит из груди твоей твой сладкий голос.
И даже если ты хотел свой голос сделать кротким,
уловки все твои скорей разбойникам подходят,
но ты не сможешь обмануть и малого дитяти.
Дурным, осиплым голосом ты все одно вещаешь,
ты выпускаешь из себя треклятое дыханье.
Как долото, когда долбит и крошит твердый камень,
так голос твой стучит в ушах людей, кто его слышит.
Но ты поближе подойди, тогда меня узнаешь
и уж не будешь вдругорядь просить моей услуги.
Если водицы просишь ты, чтоб вдоволь сам напиться,
песка кувшином зачерпну, тебе в бурдюк насыплю,
чтоб рот тебе песком забить, чтоб иссушить его враз
так же, как ты мне иссушил несчастное сердечко.
Четыре месяца назад, да в прошлое-то лето,
ко мне ты гостем в дом пришел, тебя я угощала.
И как родного приняла, в дверях с тобой обнялись,
и в дом когда ты заходил, прошел ты под подковой,
на стол тебе я собрала, чтоб ты поел на славу,
и мясо было там, и хлеб, и лучшее винишко,
а как поел ты и попил, а спать хотел ложиться,
то простыни невестины тебе я постелила.
Но сердце черное твое насытиться не может,
и утром, как проснулся ты, то снова был голодным,
родного мужа моего ты разодрал и слопал,
словно собака дикая, которая хозяев
не признает, бросается на тех, кто ее кормит.
Ведь ты из своры из дурной, ведьмино ты отродье,
уж лучше б ведьма та тебя в пеленках задушила.
Словно огонь, так в голове зажегся гнев Харона,
а рот его наполнился вдруг желчью, словно ядом.
Мысли кружатся в голове по кругу, словно змеи,
Он хочет лук взять со спины, из колчана взять стрелы
да прямо сердце девушки пронзить стрелою тонкой.
Но сам Харон – как океан, Харон сам – будто ветер,
легко разгневался Харон, легко он и остынет,
ведь либо от морской волны, либо от долгой ласки,
камни стираются во прах, скалы – в мелкую гальку.
И как собрался он ответ сказать ей, так вздыхает,
будто с печалью, чтобы гнев покрыть свой так лукаво.
– Права сто раз ты, тыщу раз права, что рассердилась,
права, что ты печалишься за все, что приключилось.
Но прежде чем ответ давать, прежде чем я отвечу,
женщина, ты свои проклятья придержи-ка.
Как занимается заря на светлом небосклоне,
как только отступает тьма и землю ранит светом,
мутнеет разум мой тогда, темнеют мои мысли,
и в друге вижу я врага, в знакомых – незнакомых.
Вот потому, когда я на кровати приподнялся,
твой муж заметил и пришел спросить меня, что нужно,
не нужно ли мне что-нибудь, чего душа желает,
я не признал его совсем и принял за бандита,
так что болезнь в него вдохнул и невзначай убил так.
Когда совсем уж рассвело, я понял, что наделал,
тогда и медлить я не стал и сразу дом покинул,
уж так мне было совестно, уж так меня давил стыд.
Вот потому-то говорю, ты не серчай напрасно,
тебе я горе причинил, я знаю. И я каюсь.
Собралась девушка в ответ сказать, но промолчала.
Затем опять же говорит, но голоском другим уж:
– Я принесу тебе воды, чтоб ты напился вдоволь,
чтобы потом вдвоем с конем ушли вы восвояси,
но я за это попрошу в обмен мне дать подарок.
И улыбнулся тут Харон, кричит и говорит ей:
– Наполнить твой кувшин готов я до верха, до края,
и золотом и серебром тебе его забью я,
и тканями дамасскими, сирийскими шелками
укутаю я и кувшин, и ту, что его носит.
– Приданого, шелков, монет не нужно мне, несчастной,
прошу я только одного – верни родного мужа.
Ты из земли его возьми, из темной из могилы,
чтоб сладко целовала я уста его рдяные,
тогда и я тебе кувшин влагой живой наполню,
и принесу, чтоб промочил свои сухие губы.
– Клянусь я камнем, где стою, деревьями, что вижу,
клянусь, что мужа твоего верну я в мир обратно.
Когда бурдюк, полный воды, сожму в своей руке я,
тогда и мужа своего сожмешь в своих объятьях.
Берет кувшин она, и до краев наполнила бурдюк свой,
и, как младенца, понесла его в своих объятьях,
шагает все вперед она, и пропасть не страшна ей.
Не быстро и не медленно идет она по скалам,
а так, как в церковь шла к венцу, когда была невестой.
Но вместо красочных одежд на ней платочек черный,
а вместо жениха с отцом Харон ее встречает.
Но с песнями идет она, идет она с улыбкой,
а в голове ее звучит мелодия со свадьбы.
И не боится пропасти, не страшно ей подняться,
ведь там, в конце ее пути, Харона дар обещан.
– Возьми, испей, и как вода вольется в рот прохладой,
так влей и ты подарок свой ко мне скорей в объятья.
Харон берет бурдюк с водой, открыл его зубами,
он жадно, ненасытно пьет и все допил до капли.
– Уж очень мне понравилась холодная водица,
поэтому я для тебя сейчас достану мужа.
Как только на землю легли слова из уст Харона,
так стали вдруг они расти среди камней, как семя,
корни пускают в глубину, нутро земли пробили.
Трещат деревья в вышине, трещат кругом и скалы,
земля разверзлась и готова в муках разродиться,
и вот из чрева из ее выходит славный парень.
Харон махнул ему рукой и кажет на девицу:
– Вот и жена твоя, смотри, идите обнимитесь.
И голову склонил мертвец, приказам был послушен
и потащился медленно к своей жене любимой.
– Мой Константин-то[19] был с густыми волосами,
а этот лысый, погляди, этот – совсем другой муж.
– Твой это муж, тот самый он, второй раз он родился.
Ты много видела детей – все без волос рождались.
– Мой муж красавец первый был, высокий, статный, крепкий.
А этот сгорбленный, худой и черный, словно уголь.
– Твой это муж, тот самый он, идите обнимитесь.
А ежели и черен он, а ежели и худ он,
так это все из-за того, что трудно так рождаться.
– Мой муж горячим был, мой муж был словно пламя,
а этот стылый, ледяной, холодный, словно камень.
– Твой это муж, тот самый он, не отгоняй его ты.
Четыре месяца в земле, далеко от мирского,
остыла грудь его в земле, замерзло его сердце.
Такая доля уж у всех покойников и мертвых.
– Но ты поклялся, что вернешь мне дорогого мужа,
а не покойника, что ходит и не разберет дороги.
И засмеялся тут Харон, так что мир содрогнулся.
– Свидетелей я призывал, когда тебе поклялся,
и мне никто не скажет, что нарушил свою клятву.
Поэтому ты замолчи и не кляни напрасно,
то, что обещано тебе, я выполнил прекрасно.
Его поднял, его привел, его поставил ровно.
Твой это муж, тот самый он, хотя он и покойник.
Только его ты у меня просила и молила,
твое желание сбылось, теперь пенять не надо.
– Ты знал, Харон, знал наперед, но слова не сказал мне,
Зачем несчастной мне опять, второй раз, разбил сердце?
– Ведь я Харон, о женщина, и повелитель тьмы я.
Таким Господь меня создал, таким я нужен миру,
рыданья мне ласкают слух, плач слышится мне песней,
и вторят им печальные филинов воздыханья.
Пальцы беру у стариков и делаю свистульки,
а косточки младенчиков – ключи для барабанов.
А если крепкий молодец – то кожу я сдираю
и бубен звонкий делаю, а зубы – бубенцами.
В том замке черном, где живу, из плит могильных стены,
в садах вокруг везде растут нежные асфодели.
В такой стране я царствую, в таких местах я правлю,
от этого мне хорошо, такой я пир справляю,
ведь о любви не слышу я, сочувствия не знаю,
как только там, где красота, пройду – и все увянет.
– Два раза обманул меня, но третьего не будет.
Теперь послушай ты меня, то, что тебе скажу я.
Проклятие вдовы – закон, но я вдова два раза,
И все, что я тебе скажу, исполнит бог и дьявол.
И если дар свой от тебя мне получить не сталось,
то и тебе тогда земля не будет дарить мертвых,
в ней будут все они не спать, там будут просто скрыты.
И сколько вдов есть без мужей, стольких ты потеряешь,
и сколько матерей, сестер – не будет их в Аиде[20].
Не будет тебе радости – так же как нет и людям.
Когда был голоден, Харон, тебе дала я мужа,
когда ты пить меня просил, поила из ладоней.
Но ты, как черная змея, как страшная гадюка,
пригрелся прямо на груди, чтобы потом ужалить.
Хароново оружие от женских слов упало,
хоть и привык он повергать богатырей, героев
и были не страшны ему опасности мирские.
Ни слова больше не сказал, к вдове он повернулся
и, плечи долу опустив, склонил лицо пониже.
Пошел он к своему коню, в седло сел и промолвил:
– Гривас, давай скорей гони, давай скачи скорее.
Эта земля постыдная, эта земля – проклятье,
а людям, что на ней живут, святой закон не писан.