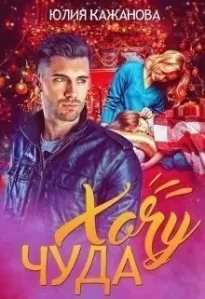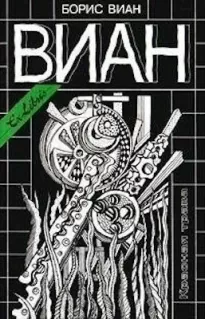Музей «Калифорния»
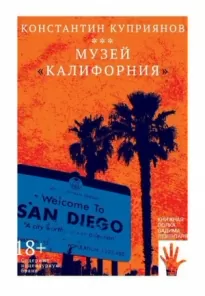
- Автор: Константин Куприянов
- Жанр: Русская современная проза / Современные российские издания
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Музей «Калифорния»"
А потом еще: «Чем занимаешься?» Повезло. Тогда я уже сел в какой-то запыленный офис, в какое-то продавленное кресло, видевшее, видимо, больше задниц, чем эта машина, в которой происходило дело. Она что, не чувствовала, насколько в ней воняет куревом? Отчего так спокойно и весело говорила? «А мне говорили, — скажет, — тут самые лучше бургеры в In’n’out», — попросит накормить ее самой дешевой поганой едой, и мы едем. Я на первом свидании угостил девушку бургерами, с жирной подливой жира и жареного лука. «Иннаут» — это штука с западного побережья — в ней есть обычное меню и меню для патронов. Мы всегда заказываем из второго, мы же не тупые приезжие гуки. До того, как я перестану есть мясо по хорошим объяснимым причинам, протянется четыре года, все раны, воспоминания заветрятся, сравняется с землей и уголок, где мы ели, поглядывая друг на друга через ночь с непосредственным детским любопытством, исчезнет в горе строительного мусора скамейка, сидя на которой я прикоснулся к ее руке, и она не оттолкнула меня.
С ложью одна проблема — она забывается, а если врешь в книге и пишешь не сердцем или если сердце твое занято, пока пишешь книгу, — напишешь вранье, исчезающее быстрее самой бумаги, где это по ошибке напечатано. Сохраниться нет никакой надежды, но продлить себя чуть дольше можно лишь верой в собственную правду. И чтобы говорить правду, надо постоянно оглядываться в основу и начало, где просто не могло остаться обмана, ведь все в начале было правдой и невинностью. Мог же сказать Дашечке, что я на практике в полицейском участке, мог сказать, что я — юрист и пока тут «осматриваюсь»; единственное, чего я еще точно не мог позволить себе, так это сказать: я — автор текста или тем более — писатель. Она пришла, когда я только закончил повесть, в которую наконец-то, как в патрон, вложил всю правду жадного на солнце декабря: тоску по России и весь смрадный ужас предыдущих пяти лет, мне между две тысячи одиннадцатым и две тысячи шестнадцатым стало все ясно.
Знаешь, бывает, проснешься, а твоя страна — это ад, и ты в аду. Это легкое объяснение, сейчас-то я пришел к тому, что ад всюду — достаточно слово «ад» написать. Я и со своей головой могу так сделать: сказать ей, что здесь ад — ничего этого нет вне сознания. Пустота для потенциала вещества — это самое главное. Например, гончар думает, что материал для горшка, идеальность формы, соразмерность пропорций — ключевое, но мы-то теперь понимаем, в час перед эрой Предчувствия: пустота главней всего. Это ее окружат, и вберут, и вместят в себя стенки горшка, но стенкам разбиться, истлеть и исчезнуть, а пустота захочет новой формы и вдохновит следующего гончара, когда уж и памяти не станет о слове «гончар». Без пустоты горшок нахер никому не нужен.
И также никому нахер не нужен мой скучноватый вторичный сюжетец о высланных на севера зумерах, где постепенно им сворачивают шейки и где они превращаются в тех, кто гнал их на север, где постепенно срастаются с вечным императором, имя которого от случая к случаю может меняться, но суть одна — что ей-богу похуй, как его там зовут. Главное, пустота внутри моего северного ходока. Главное — оглушающая боль отсутствия. Меня больше нет, я умер, и при этом я должен как-то вставать и включать свет и идти с открытыми глазами на улицу, видеть облака, соучаствовать в том, что остальные видят: новый день и непременное движение. Смерть эту нельзя воспринимать слишком всерьез, слышишь? Смейся и играй. Движение, как и пустота, — это единственное, что точно произойдет, а формы горшка и формы форм пусть сменятся, а только неуловимое, неназванное вещество, которое в них, останется неуловленное, непознанное, и, значит, оно бессмертное, моя смерть не в силах с ним встретиться. Так, может, поэтому и говорят, что смерти нет?.. Есть исчезновение иллюзии, а смерти…
И я написал. Там, в Америке, я стал автором, действительно стал. Только еще не понял, не ощутил на языке это сладкое слово. Меня еще не рвало от парадокса, что главное, о чем можно сказать, всегда останется не названным, мои слова только очерчивают вокруг него формы-вместилища, тогда как то самое, ради чего все создается, не может быть поймано и уловлено… И максимум — на эту удочку можно ловить возвышенных девочек двухтысячного года рождения (в две тысячи шестнадцатом году — еще скучноватые, по-детски нелепые шестнадцатилетние, а сегодня уж самые лучшие взяты замуж или отданы в монастырь своему будущему), а я ловил женщину постарше себя. Даша была постарше, недели три не признавалась, я целовал ее, наугад, думал: хорошо я делаю или плохо? Смеялась — говорила только, что весьма нежно. Ну, значит, сойдет, для чего еще поцелуй? Нежностью следует гордиться, ей должна быть посвящена отдельная религия, когда-нибудь, когда будет больше жизненного пространства и меньше заботы о выживании; мы станем нежнее, мы построим алтарь богу нежности: пустую скамью, где любовники должны предаваться чувственному ласканию; нежность там будет священна, ею надо окружать то несказанное, что люди не могут поместить в форму, в структуру, в секс, требующий всегда насилия. Так и в доме — ценное только то, в чем существует человек, хотя человеку кажется, что ценное — это стены, предметы, картины и скульптуры или хотя бы жители. Нет. В пустой комнате я тщетно вспоминаю Дашечку и наши три попытки быть вместе.
Трижды пытались. Она давно не здесь, давно ее вернула себе черноземная Европа, но, благодаря попыткам и искренней любви, так и осталась жительницей Сан-Диего, нимфой Оушен-Бич, героиней моей невинной не-зимы две тысячи шестнадцатого, где я остался мальчиком с ней, а она призналась мне. Увы, но настоящая попытка любить бывает у людей одна, дальнейшее — умственные подделки, желание выдать невозможное за все еще допустимое…
Заблуждения всегда будут сменяться, да и дома не вечны, сами города, где были мы счастливы, нежны, влюблены, когда-нибудь уйдут под землю; мы заблуждаемся, что будет новая попытка, археологи будущего назовут их диковинными, когда за нами вослед спустя десятки тысяч лет прорастет уж два-три слоя реальности. Кстати, тут, в Сан-Диего и в Оушен-Бич, все очень любят сходить с ума по экологии. Думают, это поможет удержаться на плаву, не уйти так рано в небытие… Меня даже не запихнули чуть было в самом-самом начале в департамент по защите окружающей среды, но вовремя очухались: вся эта свистопляска насчет человека, уничтожающего природу… Понимаешь, если он что и может уничтожить — то это самого себя. И то займет целый lifetime — весь этот кусочек от общего пирога, который тебе отрезали вначале, его на саморазрушение и трать. Зачерпнешь сколько-то материи и потратишь ее всю на обуздание пустоты и пространства. Окружающая среда будет в порядке, заверил я полицейский участок, дайте мне лучше разобраться со смертью. Смерть — это очень противоестественно, а еще это самый важный образчик формы, на втором месте после рождения. Пустите меня к ее подножию. Так я оказался в своей позиции. А природа (махнул рукой) как-нибудь разберется.
Природа невинна, в ней забываются вчерашние темные мгновения, вчерашняя ночь страсти. Да, боль зверя такая же настоящая, как и моя, но нет по ней рефлексии. Кстати, у меня был однажды ученик, я так ему и сказал: «Есть всего одна „настоящая“ вещь — это боль», — и потом я ударил его.
Ударю, доведется, и свою Дашечку (не буквально ударит — примеч. соавтора-Д — для современников‐повесточников). Всегда встречается кто-то слабее тебя, и вы временно, очень ненадолго распределяете роли: учитель, ученик, любовник, проситель, жена, муж… Потом десять раз меняетесь местами и, когда все уроки выучены, расходитесь, как потухшие искры над огнем. Учитель не приходит раньше, чем готов ученик. Даша работала уборщицей на острове Коронадо, в доме, который стоит больше, чем все наши продовольственные пайки предков, вместе взятые. Помню вечер, когда я забрал ее с другой работы (как белка в колесе, крутилась между кучей работ и без устали, без ропота, скорее в шутку, приговаривала: «Зачем я все это делаю?..»), мы поехали на остров. Через синий мост, потом дорогой направо, в пустынный парк, оставили там машину и, взявшись за руки, забрались на задний двор дорогущего дома, внутри она смахивала пыль с никем не используемых часов, клавесинов, кресел, ковров, котов (из черного дуба) и так далее. Трудилась под строгим надзором глазниц видеокамер, выводивших изображение за тысячи миль отсюда, в бункеры и другие гостевые дома, где семейство старых денег коротало срок, а во дворе камеры давно ослепли: садовнику пожадничали заплатить, и листы магнолии закрыли глазки, и мы могли предаться страсти в тайне, ночью, невидимые, неслышимые. Там люди жили раз в году — один месяц между февралем и мартом, в сумме у них было двадцать четыре дома по всей Америке, треть из них здесь, в Калифорнии: в мегаполисах, в горах, в пустынях, на побережьях… и, говорят, тридцать или сорок домов в других странах мира, они даже по неделе в году не могли жить на одном месте — метались, как сумасшедшие, только бы заглотить побольше вещества перемен.
А у нас с Дашей на двоих не было и одного дома — я жил на диване, угол мне принадлежал в стремном районе, зип-код (индекс) 92102, там тогда еще оставалось неблагополучие, не добралась лапа левацкой (благословенной) джентрификации; а Даша жила в трейлере, в трейлерном парке, у друга по секте, который страшно гордился, что ему принадлежит клочок грязной земли, воняющей бензином, и полтора раскоряченных трейлера, которые никогда уж не уедут из этой ямы — в них он вселяет трех-четырех работяг за сезон и тем кормится год от года, пребывая в праздном меланхолическом созерцании веры. У нас не было дома — нашим домом была странная влюбленность, которой я так и не доверился. И я ударил ее: «Понимаешь, с тех пор, как Женя предала меня, никому я больше не могу доверять». Понимаешь, любовь же не к человеку, любовь — это просто огромное сердце, которое заманивает тебя в лоно, и ты узнаешь эту душу и понимаешь, что точно есть душа. Все остальное — это как моя похоть к Ведьме: ярко, взрывоопасно, но пустотело и на исходе дня остаются только проклятия. Их нельзя не произнести, подобие исповеди, чтобы вычиститься и заявить, что я невинен, и ждать следующую Ведьму, и заново превращать, и заново превращаться. А в общем сердце, как в общем доме, не остается проклятий.
Поцелуй похож на отдельный вид разговора, на самостоятельный язык, мы так и называли это — «наш язык» — и учились понимать, ласковыми, нащупывающими прикосновениями, мне хотелось ей объяснить:
«Видишь ли, это первый мир, требуются огромные жертвы, и я на них пошел. Я думал, нельзя мне больше сидеть во втором мире. Россия — это вчера, в рамках превращения цивилизаций — отнюдь немало, но в рамках скоротечного меня, умеющего только языком плести узоры, — недостаточно и поздно, поэтому надо сбежать оттуда. Еще немного они похорохорятся, но история всех расписала, а другую мне жизнь не скоро доведется примерить, да и легче не будет. И я все бросил, включая родной свой язык, и поехал. Я очень мечтал о первом мире. В любом крупном городе есть в него лазейки: Интернет, финансы, язык, литература. Но все-таки то, где ты засыпаешь, гуляешь, влюбляешься — имеет огромную значимость, это и есть твой мир».