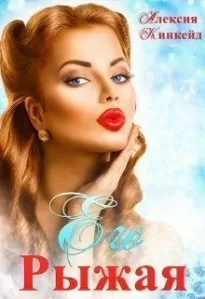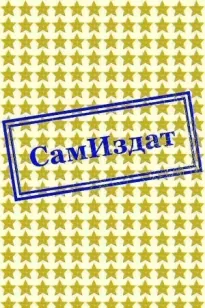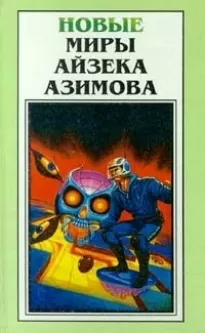О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного
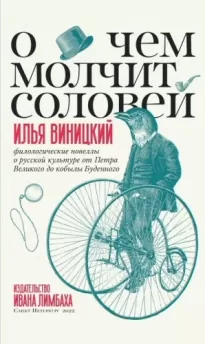
- Автор: Илья Виницкий
- Жанр: Самиздат, сетевая литература
Читать книгу "О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного"
Ой у городи та Одесі
Новая луна:
Ой там же то дівчинонька
Дитя родила,
Та не пустила на світ Божій —
В морі втопила.
Ой рибалоньки таглії невід
З півночі до дна, —
Та не піимали щуки риби —
Піимали линя;
Роздивилися, розсмотритися:
Малеє дитя!
Узяли дитя, узяли мале
На біли руки
Понеслі дитя, понесли мале
На казенній двір.
Ой ударилі, та ударили в большой колокол:
Созови созовии наш атамане
Весь дівчачіїй кол.
Oі которая дівчинонька
Дита родила
Та не пустила на світ Божій
В морі втопила
<...> Ой не плачь, мати, ой не плачь, стара,
Бо в тебе ще пьять.
Та не пускай іх на досвітки
По довгу гулять [22].
Маркевич указывает на записанные в Галиции варианты этой песни, «хотя довольно отдаленные и без упоминания об Одессе» (один из них есть в «Сборнике Головацкого», т. I, с. 54 и III, с. 26).
Тадиционным «рефреном» этой песни служили слова «Тара — ри — рай , та — ра — ра — рай Тари — ри — рай — та — ри — рай» (или их фонетические вариации).
Ср. современную версию этой песни:
1. Как во этой, во деревне, случилась беда.
Как во этой, во деревне, случилась беда.
Трай, ляй, ляй, случилась беда. (2 раза)
2. Молодая девчоночка сына родила.
Молодая девчоночка сына родила.
Трай, ляй, ляй. Сына родила. (2 раза)
3. Не вскормила, не вспоила, в речку бросила.
Не вскормила, не вспоила, в речку бросила.
Трай, ляй, ляй, в речку бросила. (2 раза)
4. Молодые рыболовы рыбу удили.
Молодые рыболовы рыбу удили.
Трай, ляй, ляй, рыбу удили. (2 раза)
5. Не поймали рыбу-щуку, поймали линя.
Не поймали рыбу-щуку, поймали линя.
Трай, ляй, ляй, поймали линя. (2 раза)
6. Развернули, поглядели — малое дитя.
Развернули, поглядели — малое дитя.
Трай, ляй, ляй, малое дитя. (2 раза)
7. Сознавайтесь, девки, бабы, чьё это дитё.
Сознавайтесь, девки, бабы, чьё это дитё.
Трай, ляй, ляй, чьё это дитё. (2 раза)
8. Одна девка сознавалась, купецкая дочь.
Одна девка сознавалась, купецкая дочь.
Трай, ляй, ляй, купецкая дочь. (2 раза)
9. Как во этой, во деревне колкола ревут.
Как во этой, во деревне колкола ревут.
Трай, ляй, ляй, колкола ревут. (2 раза)
10. Молодую девчоночку связану ведут.
Молодую девчоночку связану ведут.
Трай, ляй, ляй, связану ведут. (2 раза)
11. А за нею идёт мать, плачет и рыдат.
А за нею идёт мать, плачет и рыдат.
Трай, ляй, ляй, плачет и рыдат. (2 раза)
12. Не плачь, мама, не плачь, родна, дома ещё пять.
Не плачь, мама, не плачь, родна, дома ещё пять.
Трай, ляй, ляй, дома ещё пять. (2 раза)
13. Не давай им, мама, воли, как давала мне.
Не давай им, мама, воли, как давала мне.
Трай, ляй, ляй, как давала мне. (2 раза) [23]
Интерес Хлебникова к украинскому фольклору, и в частности к песенному творчеству, известен. Дм. Петровский вспоминал о своем случившемся до революции разговоре с поэтом «об украинских песнях, думах и языке, который мы оба любили». «Хлебников, — подчеркивал мемуарист, — по матери украинец, родился на Волыни, чем и объясняется большое количество производных от украинских корней слов в его творениях. Украинский язык, оставшийся до сего времени более непосредственным и свежим, сохранившим еще звуковую символику, был необходим Хлебникову, занятому в то время исканиями в области языка. Он тотчас же извлек пользу из моего знания украинского языка и предложил работать с ним над „таблицей шумов“, как он называл азбуку, пренебрегая гласными, которые были, по его мнению, женственным элементом в речи и служили лишь для слияния мужественных шумов. Присутствовать хотя бы в качестве фамулуса в лаборатории, где искался камень мудрецов, — я с радостью согласился» [24].
Совершенно очевидно, что «ротовушка» «трай-тарарай» (в фонетической стихии поэмы действительно скрещиваю-щаяся с блоковской музыкой «революционной» стрельбы — «трах-тарарах-тах-тах-тах-тах!»), слова «сыну родила», специфический «черный юмор» и тема (страшного) суда отсылают к приведенной выше народной песне (сам Великий князь представлен в поэме как почитатель украинской деревни с ее милыми хатами, покрытыми «соломенной челкой»). Но зачем Хлебникову понадобилась именно эта песня в поэме о революции? «Фаустовский» сюжет ее — обесчещенная девушка, утопившая своего ребенка, признание грещницы, общинный суд и ее последующая гибель — давал своего рода мифологическую мотивировку народному гневу и, возможно, связывался поэтом с темой пушкинской «Русалки» (ответственность князя за гибель возлюбленной и ее ребенка) [25] и темой настоящего (рождественский зачин «новая новина»).
Обратим также внимание на исключительную значимость русалочьей темы для Хлебникова, хорошо знакомого с народным суеверием, согласно которому некрещеные младенческие души становятся русалками, «особенно если мать утопит своего ребенка». Аполлон Коринфский считал распевавшуюся «на семицких да на купальских игрищах-гульбищах» русалочью песню-причитание «Мене мати породила, некрещену утопила» «явственным отголоском этого поверья» [26]. Иначе говоря, в смысловом плане этой музыкальной (оперной, хоровой) поэмы, вызвавшей почти физиологическое отвращение преувеличившего ее «большевизм» Ивана Бунина [27], названные мотивы вписывались в общие хлебниковские темы женской доли (образ беспощадной Прачки), исторического возмездия (народного «Dies irae») за барское насилие и грехи прошлого и неотъемлемого права мертвых (русалок у Хлебникова) на воскрешение, — темы, объединяющие его произведения о революции и сближающие «Настоящее», с одной стороны, со сценами народного бунта в «Борисе Годунове» Мусоргского, а с другой, с апокалиптическими «Возмездием» и «Двенадцатью» Блока [28].
В этом идеологическом контексте, как мы полагаем, актуализировался и «народный» смысл самой «ротовушки» «тарарай», означающей в восточнославянских загадках и прибаутках болтливый язык. Например, в сборнике М. А. Рыбниковой: «За лесом тарарай кричит. (Язык за зубами)» [29]. В другой форме у В. И. Даля: «За белыми березами тарара живет (язык)» [30]. Слово «тараруй» (в значени пустомеля, шутник и даже поэт) было использовано Хлебниковым в раннем стихотворении «Лесная дева» (1911): «Она пришла (лесная дева) / К волшебнику напева, / К ленивцу-тарарую» [31]. Иначе говоря, в поэме «Настоящее» грозный «тарарай» служит своего рода метафорой народного, уличного или, точнее, «солдатско-казацкого» языка [32], — vox populi, подводящего итог греховному прошлому и самой жизни главного героя поэмы.
Между тем, как мы полагаем, у Хлебникова, жившего в период написания поэмы в казачьем Пятигорске, была еще одна — на этот раз социокультурная и историческая — мотивировка для творческого использования этой песни в поэме о революции, выводящая наш разговор за пределы выяснения чисто литературной генеалогии соответствующего отрывка произведения. Ключевым в этом контексте является еще одно слово из «голосов с улицы» — запевалы. Запевала
В годы Первой мировой и Гражданской войн шуточная казачья и солдатская переработка украинской песни о девчоночке-сыноубийце пользовалась колоссальной популярностью. В некоторых русифицированных вариантах героиню песни звали «гимназисткой» и часто добавляли к трагическому сюжету сальные и циничные подробности, переводившие ее в разряд непристойных, ассоциировавшихся с разгулом солдатской стихии.
Приведем вариант этой песни по солдатскому «песеннику» М. А. Круглова, включающему в себя репертуар Германской и Гражданской войн (здесь она помещена под № 18 и заканчивается отличающимся от традиционного издевательским поучением):
Как во нашей деревушке
Нова новина
припев
Трай рай рай нова новина
Молодая дивчинина
Сына родила
Не вспоила не вскормила
В море бросила
Молодые рыболовцы
Рыбу ловили
Не поймали щуки рыбы
Поймали длина
Рас<с>мотрели раздивилис<ь>
Гляд<ь> мало дитя
Как во нашей деревушке
Все званы ревут
Молодую дивчининку
Под наказ ведут
А за нею стара мати
Плачет рыдает
Не плач<ь> не плач<ь> стара мати
Дома еще пят<ь>
Не пускай их на вечерку
Пускай дома спят
На каждую дивчининку
Солдатиков пят<ь>
Хот<ь> хотится не хотится
Надо целоват<ь>
Хот<ь> хотится не хотится
Надо им и дат<ь>
припев
Трай рай рай...
Конец [33]
В украинском «оригинале» этот финал звучал так: «На досвітках чужа мати кладе долі спать, // трай, рай, рай, кладе долі спать, — // хоч хочеться — не хочеться, треба йому дать, // трай рай рай // треба йому дать». По мнению Квитки, «<д>ля серьезной эпической песни такое выражение стало возможным, пожалуй, лишь тогда, когда в своей музыкальной обработке она распрощалась с давним эпическим стилем и перешла на маршевый солдатский» [34].
Замечательно, что цитаты из этой солдатской песни или ее творческие переработки очень часто встречаются в литературных произведениях на тему Первой мировой и особенно Гражданской войны, особенно в связи с корниловским «ледяным походом». В этих произведениях их чаще всего исполняют — как знак времени — профессиональные солдатские запевалы. Не ставя перед собой задачи подробного рассмотрения отдельных случаев, приведем их, так сказать, списком.
У писателя Романа Гуля (бывшего прапорщика Добровольческой армии) в главе «На Кубани» из книги «Ледяной поход (с генералом Корниловым)» (1921) можно прочесть:
Мимо проходит юнкерский батальон. Молодой, стройный юнкер речитативом — говорком лихо запевает:
Во селе Ивановке случилась беда,
Молодая девчонычка сына родила.
И со смехом, гулко подхватывают все экспромт юнкера:
Трай-рай-ра-ай-раааай,
Молодая девчонычка сына родила...
На Кубани повеяло традицией старой Руси. Во всех станицах встречают радушно, присоединяются вооруженные казаки [35].
Участник Белого движения сменовеховец Юрий Потехин в романе «Люди заката» (1925) также цитирует эту «развратную» песню:
Нина Евгеньевна смеется мелким, тихоньким, захлебывающимся смешком. Утром в сонной головке ее еще сменялись, мешаясь, весёлые ритмы давчиноньки, утопившей сына, и того томного, похотливого, что щекочущими мурашками сбегало по позвоночнику к пальцам ног, когда разбудил грохочущий за перегородкой дешевого номера в Галате голос мужа [36].