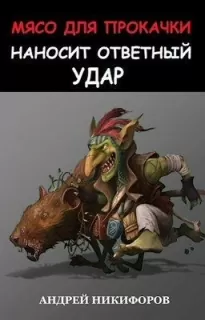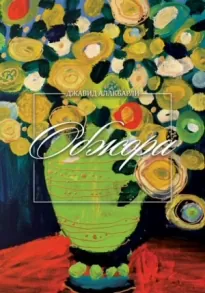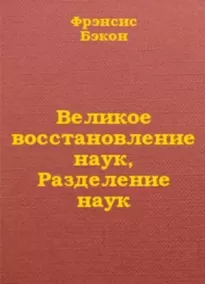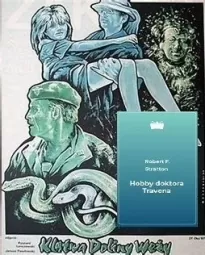Оправдание Шекспира
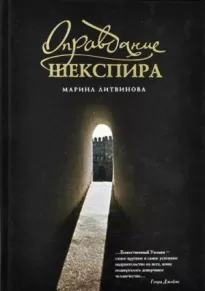
- Автор: Марина Литвинова
- Жанр: Языкознание
- Дата выхода: 2009
Читать книгу "Оправдание Шекспира"
Содержание стихотворения перекликается и с некоторыми панегириками в «Кориэте».
Уильям Бейкер предпослал своему восхвалению слова: «Анатомия, вивисекция, то бишь расчленение, великого Врачевателя-утешителя словесами, м-ра Томаса Кориэта, нашего Британского Меркурия» [397]; Кориэт рожден под Марсом и Меркурием, вторит Роберт Ричмонд. Томас Фарнаби говорит, что Кориэт вернулся домой со скоростью «крылатых ног» – опять ссылка на Меркурия. Мы видим, что Кориэт неоднократно сравнивается с Меркурием, его ум и ноги – крылаты. Так что сравнение с Меркурием Шекспирова ума у Фримана вполне вписывается в общее восприятие личности Ратленда-Шекспира-Кориэта его почитателями.
Фриман приехал в Лондон из Оксфорда в 1611 году.
В этом же году выходит «Кориэт». Ратленд еще жив. Фриман – поэт, приобщен к пишущей братии. А «Кориэт» – литературное событие. Известно, что Джон Харингтон, поэт и заправский шут [398], принес королю Иакову специально изданный для королевской семьи том «Кориэта», чем доставил монарху огромное удовольствие. Иаков смеялся над панегириками до упаду. Об этом Харингтон сам пишет в письме другу.
Эпиграмма, опубликованная в 1614-м, написана еще при жизни поэта, скорее всего после представления «Бури». Возьмем теперь строки 9, 10, 11: Меандром в пьесах вьется твой талант,
Из них юнцы поэты, как Теренций
У Плавта иль Менандра, много тащат.
Эти три строки напоминают стихотворение Джона Дэйвиса «Нашему английскому Теренцию, М-ру Уиллу Шекспиру». Фриман и Дэйвис оба любят Шекспира, и каждый посвоему им восхищается. Но один принадлежит к «племени младому», для него Шекспир – недосягаемая вершина, то, что мы сейчас называем «классик», и творчество его он воспринимает в совокупности. Оно всеобъемлюще, естественно слитно, из него черпают, что им угодно, начинающие поэты, которые еще не знают толком, о чем писать. В последних строках он призывает издать собрание всех сочинений Шекспира.
Дэйвис же давно знает Ратленда-Шекспира, он его старше на восемь лет. Дэйвис – поэт, каллиграф, занимался с детьми аристократов, переписывал великолепным почерком произведения других авторов, в частности Бэкона. Он принадлежал к Хору поэтов, у него есть дамы покровительницы, одна из них – Мэри Сидни Пемброк. Учил он падчерицу Эссекса, будущую жену Ратленда Елизавету Сидни.
Им написан длинный панегирик для «Кориэта» и траурная элегия на смерть Елизаветы Сидни-Ратленд, где он рисует портрет замечательно умной, тонкой женщины, чью смерть горько оплакивает.
Дэйвис все знает о Ратлендах. Титульный лист его книги 1612 года «The Muses Sacryfice» («Жертва Муз»), в самом конце которой помещена траурная элегия, посвященная Елизавете, иллюстрирует на самом деле содержание реквиема Честера «Жертва любви», посвященного чете Ратлендов. Я держала эту книгу в Хантингтонской библиотеке, подробно рассмотрела титульный лист. Он, конечно, должен украшать траурный честерский сборник, с чем согласна Летиция Йендл, заведующая отделом рукописей Фолджеровской библиотеки [399]. И еще этот титульный лист указывает, что в книге содержится элегия, оплакивающая смерть Феникс – Елизаветы Ратленд.
Шекспира-Теренция Дэйвис видит со своей колокольни, с высоты своих лет. Но и у него и Фримана есть одна и та же мысль. Фриман выражает ее словами: «Whence needy newcomposers borrow…» («Из твоих пьес черпают юнцы поэты», строка 10). А Дэйвис говорит: «And honesty thou sow’st which they do reape» («honesty» здесь значит возвышенное, благородное), то есть: Ты сеешь «разумное, доброе, вечное», а они, менее даровитые, пожинают и умножают собственное наследие.
Вернемся к эпиграмме 84, где Фриман пишет о благородном поступке Лабео-Бэкона.
27 октября 1613 года Бэкон наконец-то – генерал-атторни, спустя двадцать лет после двухлетней безуспешной интриги, которую вел еще граф Эссекс. В этой должности Бэкону пришлось принимать неизмеримо большее участие в государственных делах – юридических, криминальных, административных, законодательных, – чем ему было дозволено раньше.
Он старался примирить непримиримое: абсолютного монарха, раздражительного, подозрительного, капризного, требовательного, и парламент, отстаивающий исконные права и свободы британцев и старавшийся ограничить траты королевского двора. Принимал участие в разбирательстве многочисленных судебных дел. Снова и снова безуспешно пытался претворить в жизнь мечту – реформировать, упростить и упорядочить законодательство. Так что в области государственной и общественной деятельности мы не находим в 1614 году ничего, что можно хоть отдаленно назвать «победой над собой». Напротив, в глазах гуманистов, да и своих собственных, он только и делал, что предавал себя; через семь лет он и сам это признает.
Тем не менее, молодой поэт, восхищавшийся мастером Уильямом Шекспиром, в обращенной к Бэкону эпиграмме возносит и ему хвалу – оказывается, он проявил истинную доблесть, одержав над собой победу. Опять мы сталкиваемся с сознательным сокрытием имени человека, к которому обращено стихотворное послание, воздающее похвалу. И только причастные к тайне Бэкона, помнящие его латинское прозвище «Лабео», понимают, о ком и о чем идет речь.
Наверное, вопрос об авторстве ранних пьес встал сразу же после смерти Ратленда. И мне представляется, что Фриман в эпиграмме 84 подразумевает отказ Бэкона от претензий на какую-то часть наследия Шекспира, от соавторства в шекспировских пьесах, на что он все же мог бы претендовать, ведь он был Учитель, именно он вложил в гениального поэта знания, развил его мысль, давал ему сюжеты и темы его писаний, словом, образовал как драматурга и поэта.
Так или иначе, одно бесспорно: Афина Паллада в то время была расхожим образом для всевозможных аллегорий, и виделась она в те века «потрясающей копьем», то есть «a speare shaker», или «Shake-speare». Разумеется, творческое содружество Ратленда и Бэкона подтверждается пока только косвенными свидетельствами, цитатами из произведений, письмами, подтверждающих их близость. Но число этих свидетельств растет и, кажется, достигло критической массы. Они не противоречат ни друг другу, ни магистральной гипотезе: Ратленд, гениальный поэт, плюс Бэкон, гениальный ум, дали в сумме уникальное в мировой культуре явление «Уильям Шекспир», «ведь из ничего только и будет ничего», как говаривали елизаветинцы. Напротив, все обнаруженные свидетельства состыкуются точно, без морщин и натяжек, не нарушая ни логики характеров и положений, ни здравого смысла.
Эта глава посвящена многоликости Афины Паллады: она в ту эпоху и древнегреческая богиня, и символ борьбы с невежеством, покровительница и заступница поэтов и поэзии, образ ее в доспехах, шлеме и с копьем в руке витал в воображении сочинителей, и они часто упоминали ее. Ее нередко называли просто «Pallas», «Потрясающая копьем», в ее имени современникам Шекспира слышалось бряцание оружием.
Мне, однако, приходилось то и дело отвлекаться от главной темы и останавливаться подробнее на произведениях, в которых Афина так или иначе присутствует. Исследуемый материал так многопланов, взаимоувязан, ведь это плоть жизни, отстоящей от нас на расстоянии четырех сотен лет, но полнокровно существующей в тайных кладовых времени.
И если мы хотим увидеть и понять ее, нельзя вырезать в целях исследования небольшой кусок; вырезанный, как всякая отсеченная плоть, он умрет, и мы получим не живую картину, а мертвый ошметок. В этом главная закавыка: жизнь многомерна, а описывать ее приходится двухмерным линейным инструментом. Посему приношу извинение читателю за слишком усложненную композицию. Если же теперь, прочитав главу, читатель, произнося имя «Шекспир», будет видеть за ним потрясающую копьем Афину, наша цель достигнута.
В заключение хотелось бы привести одну цитату с Афиной из «Опытов» Бэкона. Одна из идей Бэкона – оборотить взор человечества в доисторическую древность, в те времена, когда люди, по его мнению, владели истинной мудростью, дающей ключ к тайнам природы, к устройству государства всеобщего благоденствия. Это было так бесконечно давно, что никаких следов от той ранней поры человечества не осталось, разве что одни застывшие мифы, требующие расшифровки. Бэкон пытался истолковать несколько мифов, раскрыть их спящую тысячелетия мудрость в небольшой книге, которая так и называется: «О мудрости древних» (1609). Одно из таких толкований мы находим и в эссе «О совещаниях и советниках», вошедшем во второе (1612) и третье (1625) издания «Опытов».
«Древние воплотили в образах неразрывную связь государей с советниками… сочетавшись с Юпитером, Метида (что означает совет) зачала от него (как говорят), но Юпитер не дал ей выносить плод, а пожрал ее, отчего сам забеременел и родил из головы своей вооруженную Палладу. Чудовищная басня эта заключает в себе одну из тайн власти. Она поучает монархов, как надо пользоваться услугами государственных советников: сперва передать дело на их рассмотрение (это будет как бы оплодотворением), когда же семя взойдет и плод оформится – не допускать советников до решений и руководства, как если бы все зависело от них, но вновь взять дело в свои руки и показать миру, что окончательные решения (которые за их мощь и мудрость уподоблены вооруженной Палладе) исходят от них самих, и не от одной лишь их власти, но (к вящему их престижу) также и из собственной их головы» [400].
Цитата тем более интересна, что сам Бэкон в царствование Елизаветы был ее ученым советником, писал по ее просьбе трактаты, содержавшие советы по важнейшим государственным делам; советы королю заключены и в речах шести ораторов в «Гесте», написанных Бэконом. Так что миф о Метиде, которая была матерью Афины Паллады, его Музы, был им осмыслен и связывался с его видением собственной роли при царствующей особе. К карьере государственного чиновника, о которой он мечтал и за которую так боролся, должность ученого советника не имеет никакого отношения, она не давала никаких ни материальных, ни политических выгод.
И раз уж мы коснулись «Опытов» Бэкона, вот как об этом жанре вообще и об «Опытах» Бэкона в частности писал Герцен – негоже, чтобы распалась связь времен: «Во Франции, например, гораздо ранее Декарта образовалось особое, практически философское воззрение на вещи, не наукообразное, не имеющее произнесенной теории, не покоренное ни одному абстрактному учению, ничьему авторитету, – воззрение свободное, основанное на жизни, на самомышлении и на отчете о прожитых событиях, отчасти на усвоении, на долгом живом изучении древних писателей; воззрение это стало просто и прямо смотреть на жизнь, из нее брало материалы и совет… Воззрение Монтеня имело огромное влияние… Монтень был в некотором отношении предшественником Бэкона, а Бэкон – гений этого воззрения» [401]. И дальше: читая «Опыты Бэкона», чувствуешь, говоря словами Герцена, что «…это пишет человек спокойный, человек огромного ума и огромного опыта, канцлер, привыкнувший к государственным делам, пэр, не имеющий занятия, пэр, вычеркнутый из списков пэров… В душе этого человека, после разрушительного огня самолюбия, честолюбия, власти, почести, богатства, неудач, тюрьмы и унижений, все выгорело, но гениальный ум остался, да осталось еще воображение, настолько охлажденное, подвластное разуму, что оно смело призывалось им бросать пышные цветы поэтической речи по царственному пути его ясной, широкой мысли» [402]. Прошу читателя вникнуть в эти слова Герцена, это самая емкая и самая лучшая из кратких русских характеристик великого английского мыслителя, Фрэнсиса Бэкона, лорда Веруламского.