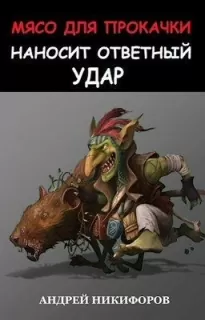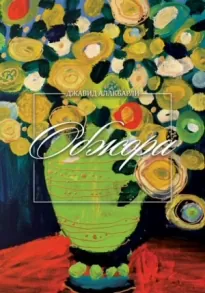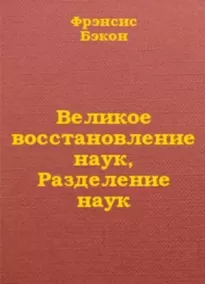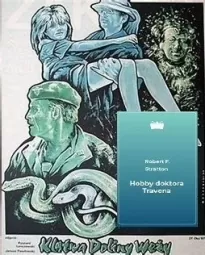Оправдание Шекспира
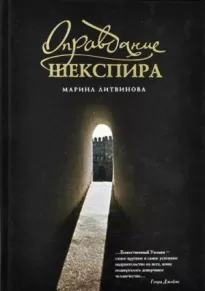
- Автор: Марина Литвинова
- Жанр: Языкознание
- Дата выхода: 2009
Читать книгу "Оправдание Шекспира"
Мы знаем из «Двух веронцев» и «Сна в летнюю ночь», что граф со временем опамятовался, простил причиненное ему страдание, как-то все себе объяснил – видно, был вспыльчив до беспамятства, но отходчив и совестлив. Но безоблачная пора жизни, которая отражена в ранних комедиях, в исторических хрониках, минула безвозвратно. После женитьбы в начале 1599 года появились первые невеселые комедии, в сердце забил источник ревности, сначала слабый, но с годами наливавшийся силой; тем более что брак оставался платонический. В характере графа постепенно развилась подозрительность, он стал часто отлучаться из дома в дальние и ближние поездки (смотри стихи Бена Джонсона, посвященные графине Ратленд и, конечно, сонеты), да еще этот злосчастный заговор, совершивший переворот в мировосприятии графа. И все это завершилось всесокрушающей любовью Джона Донна.
Так что пьеса «Троил и Крессида», заявленная еще в 1603 году и, как мне представляется, сочиненная Бэконом, послужила Ратленду еще одной канвой, куда он вплел свои горькие личные переживания. Чосером Бэкон занимался: работая в Бодлеанской библиотеке в зале редкой книги, я сняла с полки, ожидая заказанные книги, увесистый в кожаном переплете старинный том – сочинения Чосера с пометками на полях, сделанными рукой Бэкона.
Существует предположение, что Бэкон приложил редакторскую руку к сочинениям Чосера – они были уже достаточно архаичны для читателей елизаветинской эпохи. Это одно из направлений будущих исследований.
Итальянский кинорежиссер Федерико Феллини говорил: «Чтобы меня хорошо понять, надо хорошо знать мои фильмы». То же могли бы сказать и оба Шекспира, заменив слово «фильмы» на слово «пьесы».
Тут кстати еще раз вспомнить мысль Т.С. Элиота о Шекспире: «Образец творческого процесса, данный Шекспиром, это непрерывное, последовательное от начала до конца развитие. Замысел, версификация и драматургия каждой пьесы обусловлены по восходящей чувствами Шекспира, определенной ступенью его эмоциональной зрелости во время написания пьесы. Его “человек во всем” не просто величайшее, с лихвой зрелое достижение, но сценарий, последовательно составленный пьесами, так что мы можем с уверенностью сказать – полнота отдельно взятой пьесы заключена не только сама в себе, она определяется временным порядком ее написания, отношением ко всем другим пьесам, сочиненным ранее или позже. Чтобы понять любую пьесу Шекспира, надо знать все его творчество. Ни один драматург того времени ни на йоту не приблизился к подобному совершенству архитектоники совокупно взятого творчества, этому глубокому и очевидному плану…» [408] Как всякий вошедший в плоть и кровь языка фразеологизм, «потрясающий копье», «потрясать копьем» в английском языке позднего Возрождения легко меняет лексические составные на синонимы или даже теряет одну из них, при этом очевидная связь с исходным словосочетанием сохраняется. В знаменитой оде Шекспиру Бена Джонсона, сочиненной для Первого Фолио, мы читаем это устойчивое словосочетание в таком виде: «…he seems to shake a lance…» Оно встречается у Джонсона и в ранних пьесах, причем замене подвергаются и первый компонент, и второй, иной раз заменяются обе части, и тогда мы имеем дело, пожалуй, уже с аллюзией, намекающей на «потрясающего копьем». Надо отметить, что во всех случаях найденные мной в процессе исследования преобразованные фразеологизмы и аллюзии так или иначе связаны с Шекспиром-Ратлендом, иногда прямо, иногда завуалированно, в виде аллегории.
Джонсон отдает дань и любимой забаве интеллектуалов того времени – переиначивать имена и фамилии, переставлять буквы и слога, переводить на другие языки, современные и древние. К примеру, имя «Пунтарволо», которым назван персонаж пьесы «Всяк выбит из своего нрава». «Пунтарволо» по-итальянски – летающее острие, «итализированный», так сказать, вариант «Шекспира». У копья, которым машут, острие летает. Почему взят для аллюзии итальянский язык – понятно. Прототип Пунтарволо – граф Ратленд. Он недавно вернулся из путешествия по Европе, где дольше всего пробыл в Северной Италии, откуда привез всевозможные чужеземные новшества: вилки, диковинные итальянские кушанья, специи, вина, словом, новые гастрономические привычки. И еще копии картин итальянских художников, судя по архивам Бельвуара, в том числе очень неприличных – известные своей непристойностью рисунки Палладио. И, конечно, многочисленные истории из далекого и недавнего прошлого Италии, которые он изложил в виде пьес на английском языке. Бен Джонсон в этой пьесе в предисловии «Характеры персонажей» скажет о Пунтарволо: «A vain-glorious knight, over-englishing his travels» – «тщеславный рыцарь, перелагающий на английский свои путешествия».
Отметим, что слова «Италия», «итальянский», так же как и «путешественник», – ключевые для Ратленда на протяжении пятнадцати лет, фактически до его смерти.
Кое-что из увиденного во время странствий можно найти в пьесах Шекспира, об этом пишет Петр Пороховщиков в книге о Ратленде-Шекспире. Одно он все-таки не заметил. В «Буре» (акт 3, сц. 3) есть такие строки. (В переводе Михаила Донского в последних строках допущена ошибка, поэтому даю их подстрочник):
АНТОНИО:
Нет, путешественники нам не лгут,
Хоть дураки над ними и смеются.
ГОНЗАЛО:
Да, в юности не верил я рассказам
О том, что есть диковинные люди
С подгрудками, как у быков… [409]
Однако обнаружилось, что все,
Кто ездит под залог один к пяти,
Вещает доказуемую правду.
Действительно, Томас Кориэт, путешествуя в Альпах, находит селение, где у всех жителей зобы, потому что они пьют воду из растаявшего снега. Вот как он эти зобы описывает: «Огромный нарост на шее, вроде опухоли, такие мы называем на латыни «strumas», величиной с мужской кулак. Эти вздутия часто встречаются у жителей горной Савойи, оттого что они пьют снежную воду» [410].
«Буря» игралась первый раз на придворной сцене в начале ноября 1611 года, а книга Кориэта была зарегистрирована в Регистре печатников и издателей 26 ноября 1610 года и вышла в 1611 году. Скорее всего, «Бурю» поставили уже после выхода книги в свет.
Слова Гонзало о жителях гор – часть драматического повествования. Неаполитанский король со своей свитой выброшен бурей на необитаемый остров, полный чудес. Играет странная, торжественная музыка. Несколько странных фигур накрывают взявшийся невесть откуда стол с яствами и приглашают всех утолить голод, а сами исчезают. Король и приближенные только диву дивятся. Вот тут и пошел разговор о путешественниках, которые привозят из заморских стран самые невероятные истории, Гонзало приводит в пример жителей гор, шеи у которых украшены, как у быков, толстым наростом. Теперь он готов в это поверить, тем более что путешественники приводят верные свидетельства истинности своего рассказа. А Кокбурн приводит параллельное наблюдение из сочинения Бэкона «Естественная история»: «Снежная вода считается вредной для здоровья: у людей, живущих у подножья заснеженных гор или имеющих иной доступ к ней, которые пьют эту воду, особенно у женщин, бывают на шее большие наросты, похожие на сумки». Вот такие совпадения объединяют Ратленда-Шекспира-Кориэта и Фрэнсиса Бэкона.
Здесь есть еще одна интересная параллель. Гонзало говорит о путешественниках, которые, собираясь в путь, заключают пари один к пяти, оставляя в залог определенную сумму, и если благополучно возвращаются, то пари выигрывают. Так вот, Пунтарволо, за которым очевидно скрыт Ратленд-Шекспир, собираясь в очередное путешествие, а именно в Константинополь (туда потом засобирается и Томас Кориэт), поручает нотариусу составить документ, узаконивающий отъездное пари на условиях один к пяти. Кориэт тоже путешествовал на пари, но, помнится, на условиях один к шести, во всяком случае, денег у него ушло на печатание книги столько, сколько он получил бы на условиях один к трем.
Путевые заметки Кориэта до сих пор представляют исторический, географический и страноведческий интерес, он упоминается в больших географических справочниках как замечательный путешественник. Правда, в его заметках есть такие истории, которым просто нельзя верить – они и смешные, и нелепые.
По мнению всех без исключения шекспироведов, за Пунтарволо и Аморфусом из «Празднества Цинтии» стоит одно и то же лицо, но кто – неизвестно. Только один автор, печатающий литературные статьи в лондонских газетах в конце XIX века, заметил, к ужасу и изумлению Шенбаума, что Аморфус, скорее всего, – Шекспир. А ведь он прав. «Пунтарволо», никуда не денешься, – тот, у кого летает острие копья, и значит, он – Шекспир, то есть наш знакомец Роджер Мэннерс пятый граф Ратленд. А стало быть, и Аморфус – Шекспир.
Таких людей называли тогда «fantastic». Старшая сестра Ратленда отказалась выйти замуж за его друга Саутгемптона именно потому, что он представлялся ей таковым.
О Пунтарволо говорит в пьесе Джонсона персонаж Карло Буффон. Под личиной Карло Буффона, который злобствует без разбора, Бен Джонсон изображает Марстона. Вот что мы узнаем от него о Пунтарволо:
«Он, Пунтарволо, любит собак и соколов и жену тоже; смело сидит в седле и удержит самую крупную лошадь у барьера, хоть и нельзя со всей уверенностью сказать, что он малый не промах; зато верхом вылитый св. Георгий; вот и все, что я знаю, прибавлю только, что он однажды, потрясая древком, напал на ствол дерева и доблестно продырявил его узловатую кору, не в пример тому другому, дырявящему чешую чудовища». (Акт 2, сц. 1.) Это еще одна аллюзия Джонсона на «Потрясающего копьем»: «brandish… and break his sword» – «потрясать и сломать копье». Обратите внимание: «sword» теперь в нашем понимании меч, а тогда был синоним слову «копье». Напомню, что аллюзия относится к персонажу по имени Пунтарволо.
Позволю себе пояснить эти обидные слова, сказанные о Ратленде. Начать с того, что Ратленд действительно любил собак, у него была псарня, он разводил породистых охотничьих собак и обожал дарить их друзьям, держа в Лондоне специального слугу, который ходил за привезенным в подарок псом, пока того не возьмет новый хозяин. Ратленд был большой знаток и любитель соколиной охоты – своего лучшего сокола он завещал Саутгемптону. (Завещание Ратленда 1612 года, присланное мне из Лондона Мэри Хобсон, расшифровала Анна Данюшевская, доктор филологии, защитившая диссертацию в Халлском университете.)
Были у него и лошади – как многие знатные господа, он любил верховую охоту, но вот что интересно, в рыцарских турнирах-представлениях, которые бывали при дворе по торжественным случаям, участия не принимал. В этом отрывке есть, однако, намек, что в одном из турниров он, по-видимому, участвовал и не очень изящно сломал древко (staff) копья. Древко на таких турнирах и должно ломаться, как предписывал ритуал в целях безопасности, но Пунтарволо, судя по словам Буффона, сплоховал, и у него изящно не получилось. Копье сломалось не поперек, а вдоль. Речь идет именно о копье, на театрализованных турнирах сражались копьями. Аллюзия на эту историю есть и в пьесе Шекспира «Как вам это понравится». Так что Джонсон не без ехидства обыгрывает псевдоним «Потрясающий копьем». Да еще уподобил итализированного Ратленда Георгию Победоносцу, который ведь тоже «потрясающий копьем»: его изображают воином на белом коне, копьем поражающим дракона – дырявящим чешую зверя.