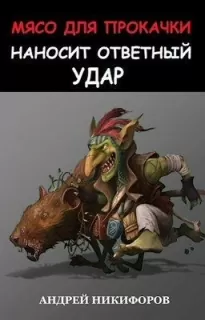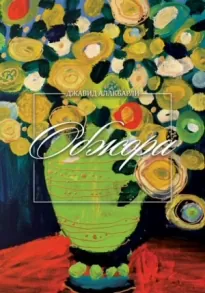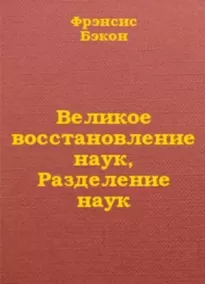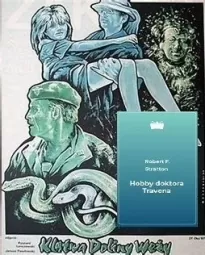Оправдание Шекспира
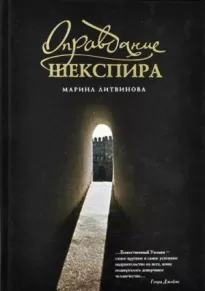
- Автор: Марина Литвинова
- Жанр: Языкознание
- Дата выхода: 2009
Читать книгу "Оправдание Шекспира"
И еще одно: почему было столько обращений именно к графу Ратленду покончить со злом, захлестнувшим Англию? Восстание было в феврале 1601 года. При дворе уже шептали друг другу на ушко, что принцам, как и простым смертным, старуху с косой на коне не объехать. Роберт Сесиль ведет переговоры с королем Шотландии Иаковом VI, Рэли и Кобмен предпочитают видеть на троне леди Арабеллу, еще одну женщину трагической судьбы в истории Англии. Шотландский король – прямой потомок по женской линии Генриха VII, но и у Ратленда есть права на корону, о чем он, до десяти лет простой дворянский сын, правда, с каплей королевской крови, никогда дотоле не заявлял. Но, наверное, были люди, которые и в пятом графе Ратленде видели возможного претендента на престол. Имя «Ратленд», пресекшееся в 1461 году и восстановленное по генеалогическому праву, восходит по женской линии через герцога Ричарда Йорка, погибшего на поле брани в войне с Ланкастерами, прямо к Эдуарду III Плантагенету. Конечно, восстановленные Ратленды – слишком дальние потомки, и они не имеют прямых родственных связей с Тюдорами. Но что из того? В их жилах течет королевская кровь, а королевство опять на грани катастрофы – королева умрет без наследника, так что династия Тюдоров все равно прервется. В стране неспокойно, то там, то здесь вспыхивает недовольство – и как религиозный протест, и как социальный. Опять грозят бедствия гражданской войны, которые Ратленд хорошо знает, ведь им, под водительством Бэкона, продумана и написана четырехчастная история войны Алой и Белой Розы. Комментатор третьей части «Генриха VI» Эндрю Кейрнкросс пишет: «Каждая очередная несправедливость или преступление требуют (в хрониках) отмщения или сатисфакции, и они всегда обоснованы ссылками на побудительную причину… Шекспир вводит определенные приемы для усиления целостной картины. Изобретает многочисленные способы заглянуть в прошлое и будущее. Действующие лица размышляют о прошлом, извлекают целые куски, снова и снова кратко их повторяют, высказывают суждения о прошлых и настоящих событиях, выражают чаяния и надежды на будущее, страхи и намерения…» [420] Вот такое серьезное осмысление исторического материала проделали авторы исторических хроник. Хроники не просто повествуют в поэтической форме о трагических и победоносных событиях, но выражают ясную историческую концепцию и нравственный принцип: распря королей и претендентов на престол – для страны худшее из бедствий. Углубившись в осмысление не такого далекого прошлого, поэт с приближением конца правления Елизаветы кровью ощутил беспокойство о будущем Англии.
Но Англия, памятуя, не без помощи шекспировских хроник, о прошлых бедах, причиненных гражданской войной, в этот раз, к счастью, не омылась новым кровопролитием, и смена династий прошла спокойно. Правда, через поколение тот исторический урок забылся, но междоусобица сороковых годов XVII века была результатом не борьбы за королевскую корону – на сцену вышел вполне созревший средний класс, готовый проливать кровь за то, чтобы лишить корону абсолютной власти. А заговор Эссекса 1601 года грозил началом новой династической смуты, причиной которой могли быть гонения на католиков, бедственное положение простонародья и ощущение приближающегося конца старой королевы. Бунт был предотвращен, зачинщики страшно казнены.
Двадцатый век оказался милостив к Бэкону. Нашли отклик завещанные будущим поколениям его идеи. Паоло Росси издает в Италии книгу «Фрэнсис Бэкон. От магии к науке», которая переведена на многие европейские языки. В ней нет язвительных замечаний в адрес Бэкона. Напротив, в спокойной и убедительной форме Росси анализирует идеи Бэкона, оказавшие влияние на все дальнейшее развитие наук. «Античные философы: Платон, Аристотель, Гален, Цицерон, Сенека, Плутарх; Средневековья и Возрождения: Фома Аквинский, Данс Скот, Рамус, Кардано, Парацельс и Телезий обвиняются в трудах Бэкона не в теоретических ошибках. Но их философские системы, все в какой-то мере сравнимые, заслуживают равного осуждения и одной судьбы, потому что ошибочна их этика. Она представляется Бэкону до такой степени чудовищной, что он пишет: “Эти невежественные, кощунственные” концепции нельзя даже обсуждать без стыда. Он хочет заменить их не новой подобной же философией, основанной на схожих принципах, аргументах, целях, а совершенно иным подходом к природе, иными принципами, аргументами и целями: по существу, это будет новое понятие истины, новая этика, новая логика» [421]. Столь же пытливо и уважительно пишет о Бэконе Франсис Йейтс в книге «Розенкрейцерское просвещение», Москва, 1999 [422]. А в 2002 году в Кембридже в издательстве «Icon Books Ltd.» выходит книга Джона Генри «Знание – сила», которая еще усиливает новое, крепнущее отношение к Бэкону. Нельзя не отметить и глубокое, объективное отношение к Бэкону и академика М.А. Барга [423].
Современные исследователи (Дж. Генри, Фр. Йейтс, П. Росси и др.) находят в трудах Бэкона и способе его мышления связь с магией, не с той, что видится нам в виде кудесника-звездочета в высоком колпаке, предсказывающего с помощью нездешних сил судьбы людей. А с той магией, которая ныне, присно и во веки веков бытует в природе, бок о бок с нами, под меняющимися наименованиями. Мы так привыкли к ее присутствию, что лишь изредка о ней думаем, почесывая затылок: чего думать, магия, она магия и есть – то, что человеческому разумению на земле недоступно, ну хотя бы вечность, природа электричества, сила тяготения. В этом смысле мы недалеко ушли от Пифагора, Гераклита, Демокрита.
В Бэконову эпоху, как и в древнейшие времена, уповали на то, что тайны эти уступят напору человеческой мысли. И люди, бьющиеся над разгадкой вековечных тайн, считались тогда магами.
Но маг магу рознь. Тут уж повинно психическое устройство человека – человек не только склонен к фантазиям, он готов верить в магов и магам. Бэкон таким вульгарным фантазером не был, правда, по нынешним меркам он все-таки большой фантазер. Но ощущение, что в природе существует «магическое», то есть непостижимое на земле, у него было сильно.
Он верил, что Адаму до грехопадения были известны изначальные истины. И еще он ясно видел разницу между шарлатанством и стремлением докопаться, так сказать, до «большого взрыва». Как же мог этот человек, которого всегда волновали нравственность жизни и философии, вот так, ни с того ни с сего, предать друга? Это обвинение абсолютно противоречит логике и психологии. И мог ли он на посту верховного судьи брать взятки ради личного обогащения? Серьезные нынешние историки так не считают, но досужих обывателей и в науке, увы, гораздо больше. И Бэкон все еще нуждается в защите.
К концу девяностых годов сотрудничество Ратленда и Бэкона в самом разгаре, это, главным образом, работа над историческими хрониками. Полотно тридцатилетней войны двух враждующих ветвей Плантагенетов (война Алой и Белой розы) благополучно завершено. И уже появились первые пьесы, которые Ратленд написал один: комедии «Как вам это понравится» (1600 год) и «Двенадцатая ночь» (точная дата написания неизвестна). Обе пьесы при жизни Ратленда не издавались, первый раз опубликованы в Фолио 1623 года, первом собрании пьес Шекспира.
В 1883 году выходит толстый том «The Promus (кладовая) of Formularies and Elegancies, by Francis Bacon», автор его – миссис Констанс Генри Потт. «Промус» – записные книжки Бэкона 1595 года, куда он заносил встреченные в книгах или случайно услышанные и чемто понравившиеся ему высказывания, пословицы, речения и просто фразы, иногда совсем короткие. «Шлем Плутона», например, делающий человека невидимкой, – часть воинского одеяния Афины Паллады. Некоторыми занесенными в «Промус» словосочетаниями Бэкон пользовался всю жизнь. Констанс Потт первая предположила, что именно он – основатель ордена розенкрейцеров. К этой книге есть предисловие. Вот что пишет его автор, ортодоксальный стратфордианец:
«Хотя я не могу поверить, что Фрэнсис Бэкон написал шекспировские пьесы, а это главная мысль книги, тем не менее, не могу не видеть, как много на ее страницах такого, что проливает новый свет на стиль и Бэкона, и Шекспира, а значит, и на строй и возможности английского языка.
А одну мысль автора, должен признаться, я полностью разделяю. Я неоднократно задумывался над тем, как трудно объяснить, ввиду популярности пьес Шекспира, полное отсутствие в трудах Бэкона каких-либо ссылок на них и почти полное отсутствие фраз, которые могли быть оттуда заимствованы. К.Г. Потт, безусловно, удалось показать, что существует значительное количество фраз и мыслей, общих для двух великих авторов. Более того, “Промус” с большой долей вероятности, почти наверняка доказывает, что Бэкон смотрел или читал в 1594 году “Ромео и Джульетту”… Собранные в “Промусе” речения ценны еще тем, что они иллюстрируют, как всеобъемлющ способ мышления Бэкона, проявлявшийся даже в пустяках. Аналогия всегда присутствовала в работе его мысли. Если вы говорите “Good-morrow”, почему нельзя сказать “Good-dawning”? Это запись № 1206…Много интересных филологических и литературных вопросов поднимет публикация “Промуса”. Упомянутая выше фраза “good-dawning” встречается в “Короле Лире” (акт 2, сц. 2, строка 1).
И во всем Шекспире всего один раз. Наборщика первого кварто (“правленого”, 1608 г.) так поразило это слово, что он употребил вместо него “even” (evening), хотя Кент чуть дальше приветствует лучи восходящего солнца. Но в Фолио – опять “dawning”, значит, слово это верно. Но тогда возникает вопрос: существовало ли оно в, то время независимо от Бэкона и Шекспира?…» Автор предисловия, находясь в плену у мифа, не задал себе естественного вопроса, имел ли Шакспер доступ к этой записной книжке Бэкона. А ведь написал же он о книге: «Как много на ее страницах такого, что проливает свет на стиль и Бэкона, и Шекспира». Но побоялся задуматься, что связывало автора поэтического наследия и мыслителя.
Вот еще пара примеров, наугад взятых из сотен подобных:
«Promus»: «Suum cuique» [424]. (To every man his own.)
«Titus Andronicus», act 1, sc. 2: «Suum cuique is our Roman justice» [425].
«Promus»: «An ill wind that bloweth no man to good» [426].
«Henry IV. Part 2», act 5, sс. 3: «The ill wind which bloweth no man to good».
И таких совпадений множество.
Елизавета отличает обоих авторов, пользующихся одним псевдонимом. Бэкону доверяется как сильному уму и психологу, умеющему убеждать и видящему, как никто, все нити придворных интриг. Не так давно она обращалась к нему за советом: что делать с Эссексом, который ослушался ее повеления остаться в Ирландии, прискакал в Лондон и, в чем был, ворвался в ее покои. Бэкон единственный, кто сумел все разложить по полочкам и, не взяв ни ту, ни другую сторону, казалось бы, разрубил гордиев узел – дело было не только в личных отношениях Елизаветы и ее фаворита, дальнего родственника: тайно действовали и другие, враждебные ему, силы. А Ратленда она любит как поэта, одаренного редким природным талантом. В этом она толк знает – какие пишет для двора изящные комедии, полные тонких и забавных шуток! Да и просто редкостно добрый, благородный человек, хотя и не без чудачеств. «Если благородством целей она уступала многим, то широтой и отзывчивостью интересов возвышалась над всеми. Она могла рассуждать о поэзии со Спенсером, о философии с Бруно, эвфуизмах с Лили» [427].